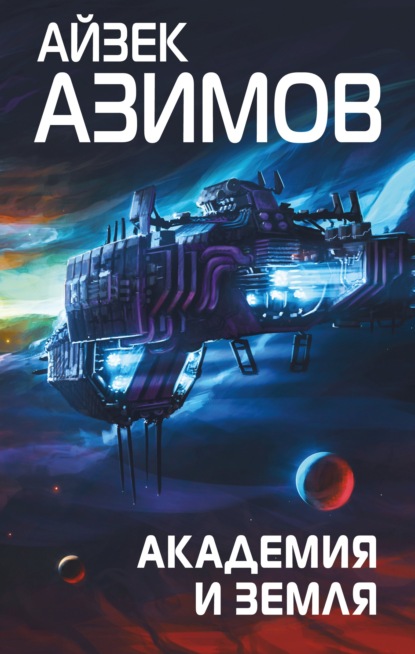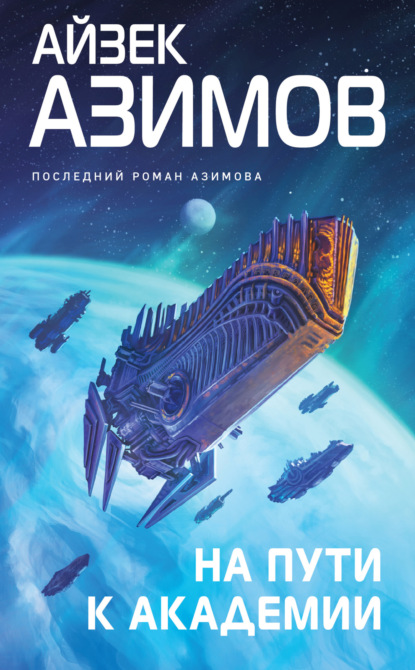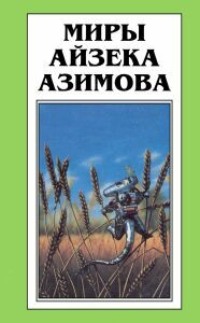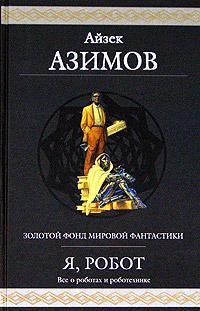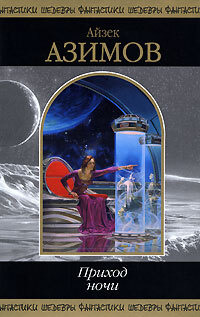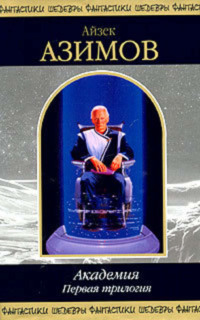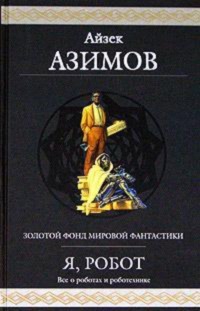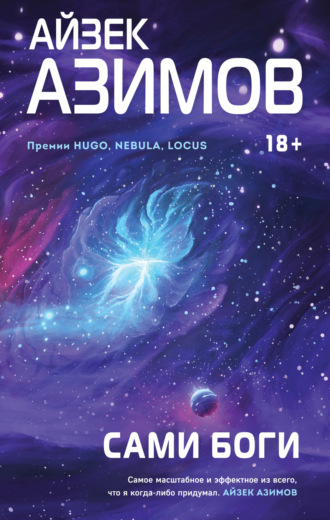
Полная версия
Сами боги
Я хочу напомнить, что одновременно с появлением плутония сто восемьдесят шесть бесследно исчезло некоторое количество вольфрама, состоявшего из нескольких устойчивых изотопов, включая вольфрам сто восемьдесят шесть. Возможно, этот вольфрам переместился в параллельную вселенную. Ведь только логично предположить, что обмен массами произвести легче, чем осуществить одностороннее перемещение.
Быть может, в параллельной вселенной вольфрам сто восемьдесят шесть – такая же аномалия, как плутоний сто восемьдесят шесть у нас. Не исключено, что и он вначале окажется устойчивым, а затем постепенно будет становиться все более радиоактивным. И может послужить там источником энергии точно так же, как плутоний сто восемьдесят шесть здесь у нас».
По-видимому, аудитория онемела от удивления – во всяком случае, Хэллема как будто никто не перебивал, и он после вышеприведенной фразы сам сделал паузу, то ли переводя дух, то ли дивясь собственной наглости.
Тут кто-то из зала (предположительно Антуан-Жером Лапен, хотя в протоколе это не отражено) спросил, верно ли он понял, что, по мнению профессора Хэллема, некие разумные существа в паравселенной сознательно произвели обмен, чтобы получить источник энергии. Вот так в язык вошло выражение «паравселенная», возникшее, судя по всему, как сокращение сочетания «параллельная вселенная». По крайней мере, до этого момента оно нигде зарегистрировано не было.
После некоторого молчания Хэллем, совсем уж закусив удила, объявил:
«Да, я так считаю. И я считаю, кроме того, что практическую пользу из подобного источника энергии можно извлечь, только если наша вселенная и паравселенная будут работать вместе, каждая у своей стороны насоса, перекачивая энергию от них к нам и от нас к ним и извлекая взаимную выгоду из различий в физических законах, действующих там и здесь».
Вот это и было сутью Великого Прозрения.
Использовав термин «паравселенная», Хэллем тем самым его присвоил. Кроме того, он первым употребил в таком смысле слово «насос» (которое с тех пор писалось только с большой буквы).
Официальная версия создает впечатление, будто гипотеза Хэллема сразу завоевала признание. Но это было не так. Те немногие, кто вообще счел нужным высказаться по ее поводу, в лучшем случае отозвались о ней как о любопытном предположении. А Кантрович не сказал ничего. Это была решающая минута в карьере Хэллема.
Сам Хэллем, конечно, не мог разработать свою гипотезу ни в теоретическом, ни в практическом плане. Тут требовалась совместная работа многих ученых. И такие ученые нашлись. Однако вначале они избегали открыто связывать свое имя с этой гипотезой, а потом было уже поздно: когда пришел успех, широкая публика твердо знала, что все сделал Хэллем, и только Хэллем. В глазах всего мира Хэллем, и только Хэллем открыл таинственное вещество, именно он разгадал его тайну и доказал истинность своего Великого Прозрения. А потому Хэллем и был Отцом Электронного Насоса.
Во многих лабораториях соблазнительно выкладывались крупинки вольфрама. В одной лаборатории из десяти происходила замена и появлялся новый запас плутония-186. Таким же способом предлагались и другие элементы, но эти приманки оставались нетронутыми… Однако где бы ни появился плутоний-186, кто бы ни доставил его в специальный научно-исследовательский центр, в глазах публики это была лишь новая порция «хэллемовского вольфрама».
И опять-таки Хэллем предложил широкой публике наиболее доходчивое объяснение теории паравселенной. К собственному удивлению (как он не преминул указать впоследствии), он обнаружил, что пишет весьма легко и популяризирует с удовольствием. Помимо всего прочего, успех обладает особой инерцией, и публика просто не желала получать информацию ни от кого другого.
В своей прославленной статье для воскресного еженедельника «Североамериканский тележурнал» Хэллем писал:
«Нам неизвестно, как и в чем законы паравселенной отличаются от наших, но, по-видимому, мы не ошибемся, предположив, что сильное ядерное взаимодействие, самая могучая из известных сил нашей вселенной, в паравселенной много действеннее – возможно, в сотни раз. А это значит, что протоны с большей легкостью удерживаются вместе вопреки собственному электростатическому отталкиванию и что ядру для достижения стабильности требуется меньше нейтронов.
Плутоний-186, устойчивый в их вселенной, содержит либо слишком много протонов, либо слишком мало нейтронов, чтобы сохранить устойчивость в условиях нашей вселенной, где ядерное взаимодействие не столь эффективно. Оказавшись в нашей вселенной, плутоний-186 начинает испускать позитроны, высвобождая при этом энергию. Каждый испущенный таким образом позитрон означает, что в ядре один протон превратился в нейтрон. В конце концов двадцать протонов ядра превращаются в нейтроны, и плутоний-186 становится вольфрамом-186, который в условиях нашей вселенной устойчив. На протяжении этого процесса из каждого ядра выделяются двадцать позитронов, которые сталкиваются с двадцатью электронами, вступают с ними во взаимодействие и аннигилируют, опять-таки высвобождая энергию. Таким образом, с каждым ядром плутония-186, посланным к нам, наша вселенная теряет двадцать электронов.
Наш же вольфрам-186, попадая в паравселенную, оказывается там неустойчивым по прямо противоположным причинам. По законам паравселенной он содержит или слишком много нейтронов, или слишком мало протонов. Ядра вольфрама-186 начинают испускать электроны, непрерывно высвобождая энергию. Каждый же испущенный электрон означает, что нейтрон превращается в протон, и в конце концов возникает плутоний-186. И с каждым ядром вольфрама-186, посланным в паравселенную, она приобретает двадцать электронов.
Такой обмен плутонием и вольфрамом между нашей вселенной и паравселенной может происходить бесконечно с выделением энергии то там, то здесь, причем заключением цикла для каждого отдельного ядра будет переход двадцати электронов из нашей вселенной к ним. И обе стороны получают энергию. Явление это можно назвать своего рода «Межвселенским Электронным Насосом».
Претворение этой идеи в жизнь и создание реального Электронного Насоса, ставшего мощнейшим источником энергии, осуществилось с ошеломляющей быстротой, и каждый новый успех укреплял престиж Хэллема.
Глава 3
У Ламонта не было причин сомневаться в том, что этот престиж вполне заслужен. Задумав написать историю вопроса, он не без труда добился приема у Хэллема и вошел в кабинет с чувством, похожим на благоговение. (Впоследствии у него от одной мысли об этой телячьей восторженности начинали гореть уши, и он постарался изгладить ее из своей памяти, что ему отчасти и удалось.)
Хэллем держался снисходительно. За тридцать лет он вознесся на такие высоты славы, что можно было только удивляться, почему у него еще не течет кровь из носа. С возрастом он приобрел внушительность, хотя и лишенную одухотворенности. Его грузная фигура казалась представительной, а грубым чертам своего лица он научился придавать выражение умудренного спокойствия. Но он по-прежнему легко багровел, а его самовлюбленность и обидчивость стали присловьем.
Перед тем как принять Ламонта, Хэллем позаботился навести о нем справки и был во всеоружии. Он сказал:
– Вы доктор Питер Ламонт и занимаетесь паратеорией – довольно плодотворно, как я слышал. Я помню вашу диссертацию. О паратермоядерной реакции, не так ли?
– Совершенно верно, сэр.
– Ну, так напомните мне подробности. Расскажите мне о ваших выводах. Неофициально, разумеется, словно вы говорите с профаном. Ведь в конце-то концов, – он добродушно засмеялся, – в известном смысле я и есть профан. Я же всего только радиохимик, как вам, быть может, известно, и не ахти какой теоретик, разве что иной раз позволяю себе выдвинуть концепцию-другую.
В тот момент Ламонт принял все это за чистую монету. Да, возможно, слова Хэллема вовсе и не были столь оскорбительно наглыми, как казалось ему потом. Но в дальнейшем Ламонт обнаружил (или, во всяком случае, уверил себя), что они были типичны для хэллемовского метода ознакомления с сутью чужих исследований. А потом Хэллем бойко рассуждал на эти темы, как правило, – а вернее, никогда, – не утруждая себя упоминанием о том, кому он обязан своими сведениями.
Но тот, более юный Ламонт был только польщен и сразу же заговорил – словоохотливо и с тем увлечением, которое обычно охватывает человека, когда он рассказывает о своих открытиях.
– Ну конечно, я сделал совсем не так уж много, доктор Хэллем. Ведь устанавливать физические законы паравселенной – паразаконы – дело очень рискованное. У нас слишком мало исходных данных. Я начал с того немногого, что нам известно, и не позволял себе никаких предположений, если они не опирались на уже имеющийся материал. Можно с достаточной уверенностью заключить, что при более сильном ядерном взаимодействии слияние легких ядер должно происходить с меньшими затруднениями.
– Параслияние, – поправил Хэллем.
– Совершенно верно, сэр. Задача, следовательно, сводилась к установлению частностей. Над математикой пришлось-таки поломать голову, но после нескольких преобразований все стало много проще. Оказывается, например, что в паравселенной у гидрида лития термоядерная реакция начнется при температуре на четыре порядка ниже, чем здесь. У нас, чтобы взорвать гидрид лития, требуются температуры атомной бомбы, а в паравселенной для этого достаточно, так сказать, простого динамитного заряда. Возможно даже, что там гидрид лития вспыхнет от спички, но это маловероятно. Мы им предлагали гидрид лития, поскольку термоядерная энергия может быть у них там чем-то вроде природного ресурса, но они его не тронули.
– Да, я знаю.
– Совершенно очевидно, что для них это слишком опасно. Ну, как использовать нитроглицерин в ракетных двигателях тоннами – только еще рискованнее.
– Отлично. А кроме того, вы ведь работаете над историей Насоса?
– Для собственного удовольствия, сэр. И если это вас не слишком затруднит, сэр, не смогли бы вы ознакомиться с рукописью, когда она будет готова? Ведь никто не знает всю подоплеку этих событий так, как ее знаете вы, сэр, и ваши замечания были бы поистине неоценимыми. Да если бы и сейчас у вас нашлось для меня несколько лишних минут…
– Попробую найти. Так что же вам хотелось бы узнать? – сказал Хэллем с улыбкой, не подозревая, что ему уже больше никогда не захочется улыбаться в присутствии Ламонта.
– Эффективный и практичный Насос, профессор Хэллем, был создан в потрясающе короткий срок, – начал Ламонт. – Едва проект Насоса…
– Проект Межвселенского Электронного Насоса, – поправил Хэллем, все еще улыбаясь.
– Да, конечно. – Ламонт кашлянул. – Я просто употребил сокращенное название. Достаточно было начать, а уж само конструирование протекало удивительно быстро и без каких-либо видимых затруднений.
– Совершенно справедливо, – сказал Хэллем с легким самодовольством. – Меня постоянно уверяют, что это моя заслуга, что все объясняется моим энергичным и прозорливым руководством, но мне не хотелось бы, чтобы вы в вашей книге излишне это подчеркивали. Мы привлекли к работе над проектом немало высокоталантливых людей, и мне было бы неприятно, если бы чрезмерное преувеличение моей роли привело к некоторому затушевыванию блестящей работы отдельных членов группы.
Ламонт досадливо мотнул головой. Все это не относилось к делу. Он сказал:
– Меня интересует другое. Я имел в виду разумные существа той вселенной. Паралюдей, как их принято называть. Ведь начали они. Мы открыли их после первой замены вольфрама на плутоний. Но они-то открыли нас первыми, причем чисто теоретически, без той подсказки, которую получили от них мы. А та железная фольга, которую они переслали…
Вот тут-то улыбка Хэллема исчезла – исчезла навсегда. Он нахмурился и сказал, повысив голос:
– Символы расшифровке не поддались. Они ни в коей мере…
– Но, сэр, ведь геометрические фигуры, несомненно, были понятны. Я ознакомился с материалами, и нет никаких сомнений, что они представляют собой своего рода чертеж Насоса. По-моему…
Хэллем гневно скрипнул креслом.
– Хватит измышлений, молодой человек. Всю работу сделали мы, а не они.
– Да… Но разве не правда, что они…
– Что «они», что?!
Ламонт наконец осознал, какую бурю чувств он вызвал, но по-прежнему не понимал ее причины. Он сказал нерешительно:
– Что они более высоко развиты, чем мы, и что, в сущности, все сделали они. Разве это не так, сэр?
Хэллем, совсем пунцовый, с усилием поднялся на ноги.
– Конечно, нет! – закричал он. – Никакой мистики в этом вопросе я не допущу. Ее и без того хватает. Послушайте, молодой человек! – Он надвинулся на ошеломленного Ламонта, который все еще продолжал растерянно сидеть, и погрозил ему толстым пальцем. – Если вы в своей истории исходите из того, что мы были марионетками, которых паралюди дергали за ниточки, то Первая станция не станет ее публиковать, да и никто ее не опубликует, если это будет зависеть от меня. Я не допущу, чтобы человечество унижали, чтобы паралюдям отводили роль богов.
Ламонт сделал единственное, что ему оставалось, – он ушел. Ушел, ничего не понимая, расстроенный тем, что, действуя из самых лучших побуждений, он почему-то вызвал только гнев и озлобление.
А затем его исторические источники начали пересыхать один за другим. Люди, которые неделю назад охотно отвечали на его вопросы, теперь ничего не помнили и не находили времени для дальнейших бесед.
Вначале Ламонт сердился и недоумевал, а потом в нем начали нарастать ожесточение и злоба. Он оценил собранный им материал с новой точки зрения и принялся требовать и настаивать там, где прежде вежливо просил. Когда они с Хэллемом случайно оказывались рядом на совещаниях или официальных приемах, Хэллем хмурился, делая вид, будто не замечает Ламонта, а Ламонт в свою очередь начинал презрительно морщиться.
В результате Ламонт обнаружил, что на избранной им ниве паратеории его явно не ждет ничего хорошего, и решительно обратился ко второй своей профессии – профессии историка науки.
Глава 6 (продолжение)
– Ох, какой идиот! – пробормотал Ламонт, все еще во власти воспоминаний о тех днях. – Видел бы ты, Майк, в какую панику он впал при одном только предположении, что инициатива принадлежала им. Теперь я просто не понимаю, как можно было с первого взгляда не догадаться, каким образом это на него подействует. Радуйся, что тебе с ним работать не приходилось.
– Я и радуюсь, – сказал Броновский скучным голосом. – Хотя и ты не ангел, если уж на то пошло.
– Не жалуйся! В твоей работе тебе никто палок в колеса не вставляет.
– Зато ею никто и не интересуется. Кому нужна моя работа, если не считать меня самого и еще пятерых человек в мире? Ну, может, шестерых. Помнишь?
Ламонт помнил.
– Ну, ладно, ладно, – сказал он.
Глава 4
Добродушная вялость Броновского могла обмануть только совсем не знавших его людей. Он обладал на редкость острым умом и, раз взявшись за какую-нибудь задачу, терзал ее до тех пор, пока не находил решения или не оставлял от нее лишь жалкие клочья, которые явно доказывали, что она вообще решения не имеет.
Взять хотя бы этрусские надписи, принесшие ему известность. Этрусский язык был живым еще в первом веке нашей эры, но культурный шовинизм древних римлян уничтожил его с такой полнотой, что от него не осталось почти никаких следов. Буквы отдельных надписей, сохранившихся несмотря на вакханалию римской враждебности и – что еще хуже – всеобщее равнодушие, походили на греческие, что позволяло угадывать звучание слов. Но этим все и исчерпывалось. У этрусского языка словно бы не было родственников среди соседних языков, он казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским.
Это навело Броновского на мысль обратиться к другому языку, который тоже словно бы не был родственным ни одному из соседних языков, который тоже казался очень древним и, возможно, даже не был индоевропейским, – но язык этот был вполне живым, и говорили на нем в области, расположенной не так уж далеко от тех мест, где некогда обитали этруски.
Язык басков? Броновский задумался. И положил в основу своих исследований баскский язык. Он не был тут первым, но его предшественники после тщетных попыток в конце концов отступались от этой идеи. Броновский не отступился.
Это была тяжелейшая работа, тем более что баскский язык, сам по себе на редкость трудный, оказался более чем скромным подспорьем. Но чем дольше занимался Броновский своими исследованиями, тем тверже становилась его уверенность, что между древними обитателями Северной Италии и Северной Испании, несомненно, существовала определенная культурная связь. У него набралось достаточно данных, чтобы построить убедительную гипотезу о широко заселявших Западную Европу пракельтах, язык которых явился предком и этрусского и баскского, хотя в своем дальнейшем развитии они очень разошлись. К тому же следовало учитывать, что этрусский язык остановился в своем развитии, а баскский продолжал развиваться еще две тысячи лет, испытав при этом значительное воздействие испанского. Логически вывести, какова была его структура в эпоху Древнего Рима, а затем связать полученные результаты с проблемами этрусского языка – значило поистине совершить редкостный по трудности интеллектуальный подвиг, и понятно, что филологи всего мира были поражены, когда Броновскому удалось это сделать.
Правда, содержание памятников этрусской письменности оказалось удивительно неинтересным и для истории не дало почти ничего – чуть ли не все они были ритуальными надгробными надписями. Но сам факт перевода был ошеломителен и в ходе дальнейших событий послужил для Ламонта спасительной соломинкой.
Однако далеко не вначале. Честно говоря, Ламонт только пять лет спустя после прочтения надписей впервые узнал, что когда-то существовали какие-то там этруски. Затем Броновский был приглашен выступить с докладом на ежегодных чтениях в университете, и хотя Ламонт обычно пренебрегал своим долгом преподавателя и пропускал чтения, но на лекцию Броновского он пришел.
Не потому, что осознавал важность темы или испытывал какое бы то ни было любопытство. Просто он тогда ухаживал за аспиранткой кафедры романских языков, и, не пойди он на чтения, ему пришлось бы отправиться на музыкальный фестиваль, а эта перспектива увлекала его еще меньше. Роман этот был мимолетным, и никаких серьезных намерений у Ламонта не было, но тем не менее на лекцию он попал из-за него.
Впрочем, лекция ему скорее понравилась. Сама загадочная этрусская цивилизация возбудила у него лишь легкий отвлеченный интерес, зато идея расшифровки неизвестного языка показалась ему увлекательной. Подростком он любил решать ребусы, но потом оставил их вместе с прочими детскими забавами ради куда более сложных ребусов, которые предлагает природа, и в конце концов посвятил себя паратеории.
И на лекции Броновского он вновь пережил мальчишескую радость неторопливого извлечения смысла из того, что на первый взгляд казалось случайным набором рисунков и знаков, когда трудности делали победу только слаще. Броновский же был ребусником первой величины, и Ламонт испытывал прямо-таки наслаждение, слушая рассказ о том, как логика упорядочивала и истолковывала неведомое и бесформенное.
Но даже это тройное совпадение – появление Броновского в университете, ламонтовское детское увлечение ребусами и флирт с хорошенькой аспиранткой, водившей своих поклонников на доклады и фестивали, – не привело бы ни к чему, если бы на следующий же день Ламонт не отправился на роковую аудиенцию к Хэллему и не погубил свою карьеру – причем безвозвратно, как он довольно скоро убедился.
Едва выйдя от Хэллема, Ламонт решил поговорить с Броновским о проблеме, которая ему самому представлялась совершенно очевидной, хотя Хэллем и пришел в бешенство при одном намеке на нее. Ламонт считал необходимым нанести ответный удар, потому что был прав, потому что именно его правота навлекла на него начальственный гнев, – а для этого в первую очередь следовало доказать справедливость той идеи, которая этот гнев вызвала. Конечно, паралюди более высоко развиты! Прежде он об этом, по правде говоря, не задумывался – это как-то само собой разумелось и особого значения не имело. Но теперь вопрос приобрел решающее значение. Он должен доказать, что прав, – вбить эти доказательства в глотку Хэллема, и по возможности боком, чтобы труднее было проглотить.
Благоговение перед великим ученым уже успело угаснуть настолько, что Ламонт с наслаждением смаковал такую перспективу.
Броновский еще не уехал, и Ламонт, разыскав его, ворвался к нему чуть ли не силой.
Загнанный в угол Броновский держался с изысканной любезностью.
Ламонт нетерпеливо выслушал его вежливые фразы, назвал себя и сразу же перешел к делу.
– Доктор Броновский, – сказал он, – я страшно рад, что успел поймать вас до отъезда. Надеюсь, я сумею уговорить вас остаться тут на более длительный срок.
Броновский ответил:
– Возможно, это будет не так уж трудно. Меня приглашают к вам в университет читать курс.
– И вы думаете согласиться?
– Я еще не решил. Но это не исключено.
– Нет, вы должны согласиться. Вы сами это поймете, когда выслушаете меня. Доктор Броновский, чем, собственно, вы можете заняться теперь, когда вы уже расшифровали этрусские надписи?
– Я занимался не только этим, молодой человек. (Он был старше Ламонта на пять лет.) Я археолог, а этрусская культура не исчерпывается надписями, так же как италийская культура доклассического периода не исчерпывается одними этрусками.
– Но ведь вряд ли в этой области есть задачи столь же увлекательные, как прочтение этрусских надписей?
– Тут вы правы.
– Тогда, наверное, вы будете рады найти проблему еще более увлекательную, еще более сложную и в триллион раз более злободневную!
– Что вы имеете в виду, доктор… Ламонт, не так ли?
– У нас есть надписи, не связанные ни с какой мертвой культурой. И даже с Землей. И даже со всей вселенной. У нас есть то, что мы называем парасимволами.
– Я о них слышал. И даже видел их.
– Но в таком случае неужели вам не захотелось взяться за решение этой проблемы, доктор Броновский? Не захотелось узнать, что они означают?
– Нет, не захотелось, доктор Ламонт, поскольку никакой проблемы тут нет.
Ламонт бросил на него подозрительный взгляд.
– Вы что, их уже прочли?
Броновский покачал головой.
– Вы меня не поняли. Проблемы нет, потому что их вообще нельзя прочесть. И я этого не могу. И никто другой не сможет. Для этого нет исходной точки. Когда речь идет о земном языке, даже самом мертвом, можно с достаточной уверенностью рассчитывать, что найдется живой язык или мертвый, но уже известный, который окажется с ним в родстве, пусть самом отдаленном. И даже если такой аналогии не отыщется, можно исходить хотя бы из того, что на этом языке писали люди и их мыслительные процессы были человеческими, сходными с нашими. Это уже опора, хотя и слабенькая. Но к парасимволам ни один такой способ неприложим, то есть они слагаются в задачу, заведомо не имеющую решения. А задача без решения – не задача.
Ламонт сдерживался, чтобы не перебить его, лишь с большим трудом. Но тут его терпение иссякло:
– Вы ошибаетесь, доктор Броновский! Не подумайте, что я хочу учить вас вашей профессии, но вы ведь не знаете ряда фактов, которые установили люди моей профессии. Мы имеем дело с паралюдьми, о которых нам практически ничего не известно. Мы не знаем, как они выглядят, как они мыслят, в каком мире обитают. То есть мы не знаем почти ничего о самом главном, о самом основном. В этом отношении вы правы.
– Но соль, по-видимому, заключается в «почти», не правда ли?
Броновский как будто нисколько не заинтересовался. Он достал из кармана пакетик с инжиром, распечатал его, сунул ягоду в рот и протянул пакетик Ламонту, но тот покачал головой.
– Вот именно! – объявил Ламонт. – Нам известен факт решающей важности. По развитию они стоят выше нас. Во-первых, они умеют осуществлять обмен через Межвселенское Окно, нам же достается чисто пассивная роль…
Не договорив фразы, он спросил:
– Вы что-нибудь знаете о Межвселенском Электронном Насосе?
– Достаточно, чтобы следить за вашими рассуждениями, доктор Ламонт, до тех пор, пока вы ограничиваетесь общими положениями.
Ламонт заговорил, не дослушав:
– Во-вторых, они прислали нам объяснения, как сконструировать нашу часть Насоса. Мы не смогли в них разобраться, но чертежи все-таки подсказали нам верный путь. В-третьих, они каким-то образом воспринимают нас. Во всяком случае, они, например, узнают, когда мы предлагаем им вольфрам. Они узнают его местонахождение и действуют соответственно. Мы ни на что аналогичное не способны. Есть еще частности, но и этого вполне достаточно, чтобы показать, насколько паралюди выше нас по развитию.