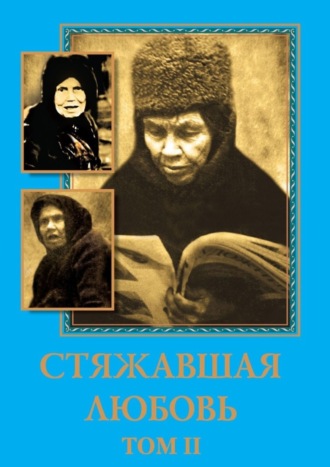
Полная версия
Матушка Алипия – Стяжавшая любовь. Том 2
Размышляя о приснопамятной монахине Алипии, мы можем сказать, что род ее подвижничества был особенный, неординарный, не укладывающийся в рамки принятых норм, ибо, что для нас сегодня значит слово «юродивый» – синоним человека со странностями. И мало кто знает, что юродство на Руси было формой христианского подвига. Благодатное озарение толкает юродивого на поступок внешне странный, но наполненный глубоким смыслом.
Различны пути, ведущие к святости. Это может быть мученичество или подвижническая жизнь, или жизнь в добровольных страданиях. «Святой любит то, что составляет сущность христианства – Крест, ценит страдание, он воспринимает его силу и знает вкус его горькой сладости» (2). Начиная с четвертого века, в монашеской среде Александрийской Церкви в лице преподобной Исидоры возникает еще один тип святости – юродство. Основанием этого крайне жестокого рода подвижничества явились слова апостола Павла: «Мы юроди Христа ради» (1Кор. 4,10). Так, в Минее 1685 года тропарь юродивым читается: «глас апостола Твоего Павла услышав глаголющ: мы юроди Христа ради, раб Твой, Христе Боже, юрод бысть на земли». В древнерусской агиографической литературе часто употребляется слово «оуродъ», например, в Печерском Патерике упоминается преподобный Исаакий Печерский, который «…поча по миру ходити оуродом ся творя».
«Сам по себе подвиг юродства не является самоцелью, о чем свидетельствуют позднейшие запреты Церкви на мнимых юродивых. Подлинно юродивые приносили не только плоть и имение свое в жертву Богу, но высшее дарование Бога человеку – разум. Такой безумный Христа ради должен был исполнять функцию общественной терапии, т.е. подвиг юродства всегда направлен вовне, на исцеление общества людей самых разных социальных сфер. Определяя этот подвиг, Евагрий в своей „Истории“ (21 гл.) говорит: „скажу и еще об одном роде жизни, который превосходит всех“, то есть называет его высшим проявлением православного подвижничества» (3).
«Юродство Христа ради… одно из проявлений любви ко Кресту… В основе этого подвига (одного из величайших, какие только могут быть доступны человеческим силам) лежит ощущение страшной виновности души перед Богом, не позволяющее ей пользоваться всеми благами мира сего и побуждающее ее страдать и распинаться со Христом. Сущность этого подвига – в добровольном принятии на себя унижений и оскорблений для достижения высшей степени смирения, кротости и благости сердечной и, тем самым, для развития любви, даже по отношению к врагам и преследователям, это – борьба не на жизнь, а на смерть не только с грехом, но и с самым корнем греха – с самолюбием, во всех его самых тайных и скрытых проявлениях. Юродивый Христа ради стремится следовать за распятым Христом и жить в полной отрешенности от всех земных благ, но он знает вместе с тем, что такое поведение грозит создать ему среди людей репутацию святости и укрепить его самолюбие, развивая в нем гордость быть избранным Божьей благодатью – самый опасный подводный камень при стремлении к святости. Чтобы его не принимали за святого, юродивый отвергает внешний облик достоинства и душевного спокойствия, вызывающий уважение, и предпочитает казаться несчастным… заслуживающим насмешек и даже насилия. Лишения, которым он себя подвергает, его героический, почти сверхчеловеческий аскетический подвиг, все это должно казаться лишенным всякой ценности и не вызывать ничего, кроме презрения. Иными словами, это – полный отказ от собственного человеческого достоинства и даже от всякой духовной ценности своего собственного существа. Но в сердце юродивого жива память о Кресте и Распятом, о пощечинах, плевках, бичевании и она то и побуждает его в любой момент переносить Христа ради поношение и угнетение. Так некоторые юродивые считали себя свободными даже от самых элементарных обязательств по отношению к человеческому обществу, к его приличиям и нравам, чтобы тем вернее бросать ему свой вызов… они предъявляли как доказательство своей отрешенности даже… видимость безнравственности (и это было даже с такими людьми, святость которых была официально подтверждена канонизацией). Юродивый Христа ради ничуть не ищет ни человеческого уважения, ни человеческой любви, он даже не хочет оставить по себе добрую память» (4).
Фундамент, на котором зиждется подвижничество юродивого, основан на смирении, которое составляет краеугольный камень духовного совершенствования. Как говорит преподобный Исаак Сирин: «Совершенство христианское в глубине смирения» Подлинное смирение, полное умерщвление гордыни и тщеславия, сокрытая в Боге внимательная духовная жизнь, чуждая всякой театрализованности, реальный подвиг внутреннего молитвенного сокрушенного предстояния пред Богом, сокрытого от глаз человеческих – все эти аспекты составляют основной критерий деятельности юродивого Христа ради. При всем презрении к себе – юродивый всегда несет служение любви, совершаемое «не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, облеченной пророчеством» (5). Видимо, для этого он посылается в мир. Ведь главное служение Христа ради юродивого – раскрыть глаза общества, пусть даже противоположным нашим представлениям способом, на свое безобразие со стороны. Как поется в тропаре св. блаженной Ксении Петербургской: «Безумием мнимым безумие мира обличивши…», – то есть Христа ради юродивый обличает безумие мира тем же не свойственным ему безумием, иными словами безобразие общества обличает его же безобразием, приглашая увидеть его воочию. Святой причастен не только своему народу и своей Церкви, но происходящему во всем мире, так как он, причастный Божией благодати и всеведению, мироощущение свое подчиняет Божиему всеведению. Так судьбы Церкви волновали и Матушку. Неадекватные поступки юродивых, до времени закрытые для понимания, нужно воспринимать в качестве притчи, действия, наполненного образной символикой. В качестве пояснения можно привести некоторые примеры из житий других Христа ради юродивых, поясняющие вышесказанное. Так в жизнеописании московского старца новомученика Георгия Лаврова приведен рассказ о блаженных Никифорушке и Андрее, образно предсказавших поругание, которое произвела безбожная власть в Мещовском Георгиевском монастыре Калужской губернии: «Ранним утром, пока батюшка еще не поднимался, он повсюду расстелил лучшие дорогие ковры, разбросал облачение, на себя надел что-то из ризницы, препоясался дорогим орарем и стал разгуливать с важным видом по комнатам настоятеля. Когда батюшка увидел его «работу», то пришел в ужас: «Никифорушка, что это ты наделал?» – А тот в ответ только рассмеялся. Это было непонятно, но вскоре произошли события, точно повторяющие все, что изображал Никифорушка. Явившиеся с обыском власти именно так и вели себя, насмехаясь над святынями. Монастырь закрыли, настоятеля арестовали, и был произведен открытый суд. Батюшку обвинили в хранении оружия, пулеметов, и он был приговорен к расстрелу… Во время суда в зале находился, среди прочей публики, еще один блаженный тех мест – Андрей. Он курил и по временам, вставая с места, выпускал дым в окно. Батюшка это заметил, и у него появилась надежда, что подобно дыму рассеются все эти нелепые обвинения и страшный приговор» (6). Что в действительности и произошло. Святые совершили эти поступки единственно с одной целью – возвестить старцу Георгию о грядущих событиях. Великая дивеевская блаженная Паша Саровская иногда шумела, а приходившим к ней монахиням говорила: «Вон отсюда, здесь касса». Когда монастырь был закрыт, в ее келии размещалась сберегательная касса (7).
Относительно матушки Алипии можно сказать, что ее подвиг был совмещением разных видов аскезы, сказавшись очень рано, духовное призвание привело ее впоследствии к небывалым для женской святости аскетическим подвигам. Не случайно душа ее стремилась в Киево-Печерскую Лавру, где собралась великая плеяда святых – в разнообразии подвигов и назидательных примеров их жизни. Где, как не здесь можно было вдохновиться и поучиться крайне суровому житию. В Лавре Матушка встречает своего духовного наставника – архимандрита Кронида, в то время бывшего наместником. Видя незаурядные духовные дарования, отец Кронид постригает Матушку в мантию и благословляет ей столпничество (вспомним преподобного Серафима Саровского, стоявшего три года на камне). Этот необычный подвиг Матушка проводит внутри дерева, в дупле огромной липы, которая находилась на территории Киево-Печерской Лавры вблизи колодца преп. Феодосия Печерского. К сожалению, это дерево не сохранилось до наших дней. Такой вид столпничества по аналогии можно сравнить с подвигом другого нашего святого, преподобного Тихона Калужского, скончавшегося в 1492 году, который изображается на иконах молящимся в дупле огромного дерева. Несколько лет провела Матушка в этом своем духовном убежище. До конца жизни старица сохранила строгие монашеские обеты: пост (питалась она крайне мало), молитву, нестяжание, полное лишение себя сна, ношение вериг (около 100 тяжелых ключей), никогда не давала своему телу лечь на ложе. Не нужно обладать достаточно сильным воображением, чтобы представить всю тяжесть столпничества – мороз, голод, усталость, тяготу, посещавшие Матушку в дупле. Или тяжесть ежедневного бодрствования, недоступного человеческим силам, так как тело человека по своей физиологии требует сна и отдыха.
Такая суровая аскетическая жизнь служила матушке Алипии средством для достижения истинной цели христианской жизни, как сказал преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым: «Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия, пост же, бдение, молитвы, милостыня, и всякое Христа ради делаемое добро суть средства для стяжания Святаго Духа Божия». А также: «Лишь только ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Духа Святого. Все же не ради Христа делаемое, благодати Божией не дает».
Если исследовать жития великих подвижников, то можно увидеть, что в большинстве случаев основная часть их жития была малоизвестна современникам. Только в конце жизни, достаточно утвердившись в подвиге, понуждаемые любовью к Богу и людям, они по благословению Божиему начинали общественную деятельность. Например, преподобный Серафим Саровский всю свою жизнь не был известен. И только за семь лет до кончины преподобного мир узнал о нем. Этому событию предшествовали неведомые в то время миру стояние в тысячу дней и ночей, пустынническая жизнь в лесу, пятнадцать лет затвора – огромный предподготовительный период. Также и матушка Алипия только в течение десяти последних лет жизни служила народу подвигом старчества, тем служением, которое мы сейчас знаем, а до этого момента в течение долгих лет проводила жизнь в тайном подвиге. Об этом же нам говорит Церковь, ублажая святителя Николая: «Молчаньми прежде и бореньми с помыслы, деянию Богомыслие приложил еси. Богомыслием же разум совершен стяжал еси, имже дерзновенно с Богом и Ангелы беседовал еси».
После кончины старца Кронида духовное наставничество над блаженной принимает другой печерский старец – схимонах Дамиан, пользовавшийся почитанием в среде православных в те времена.
По свидетельству очевидцев, прихожан Киево-Печерской Лавры, Матушка резко выделялась из прочего числа странников, находившихся там в то послевоенное время. Уже тогда Матушка пользовалась почитанием как подвижница. Всегда просто, но аккуратно одетая, всегда в молитве, по ней видно было, что внутренняя ее жизнь сокрыта в Боге и исполнение заповедей для нее не абстрактная недостижимая норма. Матушка имела постоянную нелицемерную направленность на чистый и строгий поиск исполнения воли Божией. Нравственно-молитвенное делание – вот то не теоретическое, но практическое делание, в самых глубинах которого, куда не вполне проникает свет рассудочного знания, вследствие многолетнего неукоснительного внутреннего подвига, открылись ей многие таинственные знания, в силу ее нравственного восхождения. Все силы ее души были приложены к исканию и переживанию мира Божия, стремясь к полноте Божественной тишины и совершенному бесстрастию, реально переживая непостижимо таинственное единение Бога с человеком, охватившее всю ее душу и всю ее жизнь во всех сферах и во всех проявлениях, осуществляясь на путях праведности. Усвоив эту праведность, она угодила Богу, и как следствие, ей, живущей благочестиво, открылись для сердечного знания великие тайны духовной жизни.
В 1958 году для Церкви вновь начинаются времена «Воинствующего безбожника», Н. С. Хрущев выдвигает политический лозунг своих предшественников – «за преодоление религиозных пережитков капитализма» в сознании советских людей. Открытые в послевоенные годы храмы массово по всей стране начинают закрываться под различными благовидными предлогами: то под видом ремонта, то потому, что церковь была открыта на оккупированной территории немецкими властями, то в виду того, что вблизи храма находится школа или проходит транспорт, движению которого она мешает.
В 1961 году Церковь постигает тяжелейший удар: закрывается «на ремонт и реставрацию» Киево-Печерская Лавра. Ремонт так и не был начат, но насельникам пришлось надолго покинуть эту величайшую православную святыню, к которой стекалось ежегодно около полумиллиона паломников. Разделить ту же участь пришлось и блаженной, вынужденной искать новое пристанище. И эти пристанища она находила, останавливаясь то у одних, то у других хозяев: выпадало на ее долю находиться и в подвалах, не предназначенных для жилья, вследствие предвзятого отношения к блаженной и непонимания Христа ради юродства. Но вскоре Матушка поселилась в небольшом частном доме на Голосеевской улице. Она занимала небольшую комнатку. Это была комната, которую блаженная заработала своими собственными тяжелыми трудами – белила дома, штукатурила, месила глину, восстанавливала старые хатки. Ее работу очень ценили, так как исполняла она ее аккуратно и подходила к ней очень ответственно. В то время туда, на Голосеевскую улицу, начали приходить к ней посетители. Но в основном почитатели окружали Матушку в Вознесенском храме на Демиевке, где после службы по благословению настоятеля храма протоиерея Алексея Ильющенко, впоследствии архиепископа Варлаама, она всегда выслушивала многочисленные вопросы и просьбы помолиться прихожан храма и приезжающих к ней верующих из разных городов и селений. Ибо сказано: «Слова из уст мудрого – благодать» (Ек. 10,12).
С этим храмом отныне Матушка соединила всю свою жизнь. Уцелевший в годы гонений, он представлял собой яркий благодатный светильник, являясь духовным убежищем многим верующим Киева. Настоятельствовали в нем пастыри-молитвенники, которые особенно тепло относились к блаженной матушке Алипии. Протоиерей Николай Фадеев, протоиерей Алексей Ильющенко, в будущем архиепископ Варлаам, которому Старица предсказала монашеское пострижение, вручив перед постригом четки – все они являлись неизменными почитателями подвижницы.
Многие храмы в то время, согласно идеологии, разрушались в связи с «острой необходимостью и для пользы советского народа». Так храм на Демиевке подлежал ликвидации, потому что на его территории было запланировано строительство проектного института и гаража для машин. Предполагалось выстроить огромное здание, вытянутое по горизонтали. Матушка Алипия с болью в сердце восприняла это известие. Пламенея любовью к храму, она усердно молила Бога о помощи. Прихожане храма, собрав подписи против разрушения храма, обратились в соответствующие инстанции в Киеве и Москве. Сохранилось свидетельство о том, что матушка Алипия также была на приеме в Киеве у уполномоченного по делам религий. Как говорит Писание «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано» (Мф. 10,26) О той роли, которую играла деятельность Старицы в деле спасения храма, поведал тот, чье заявление является наиболее авторитетным. Уполномоченный по делам религий в связи с обвинениями со стороны верующих в свой адрес рассказал о проявленной им милости к ходатайству монахини Алипии, в связи с чем храм был сохранен. Проект был пересмотрен, и форма здания теперь представляла собой прямоугольник, вытянутый по вертикали. В таком виде проектный институт существует и по сей день.
В 1979 году произошло непредвиденное событие в жизни Старицы. Стена дома, в котором она занимала комнату, разрушилась и ей пришлось искать другое пристанище. И оно было найдено стараниями одной верующей женщины Лидии, очень почитавшей блаженную. Она попросила свою знакомую Евдокию поселить Матушку в свой дом на улице Затевахина 7, в котором Старице предоставили одну комнату, имевшую отдельный вход. В этой крошечной келии и прожила Матушка до конца своего святого жития. Домик находился вблизи Сельскохозяйственной Академии недалеко от запустевшей Голосеевской обители. Он был окружен лесом и подходившим вплотную глубоким оврагом. Это было воистину уединение, не препятствовавшее богомыслию и молитве, эти благодатные места в дореволюционное время называли киевским Афоном. Митрополит Филарет (Амфитеатров) писал о голосеевских пустынных лесах: «Я приведу тебя в такие горы и леса, каких ты верно не видал. Есть где побезмолвствовать игумену Лавры и всей братии, схимник наш успевает всегда прочесть наизусть целый псалтирь, покамест он обходит по сим дебрям, от пустыни Китаевской до Голосеевской». Матушка продолжила благочестивую традицию пустынного безмолвия и всегда молилась в этих величественных лесах и глубоком диком овраге, беспрепятственно обращаясь к Богу в умиленной и сокрытой от глаз человеческих молитве. Часто подолгу ее невозможно было застать дома – в такие часы посетители знали, что Матушка, стремившаяся никогда не терять связующую нить, связывающую ее с Богом – молитву, находит утешение и радость в чистом видении Самого Бога, приближаясь к Нему в сокрушенной и искренней просьбе.
История знает святых столпников, затворников, исповедников, молчальников, старцев. Матушка была всем этим вместе. Она воедино свела все пути, которыми душа поднимается к Богу.
Устроение души матушки Алипии было настроено на самые высокие христианские и нравственные идеалы, но самыми важными для нее всегда и во всем оставались любовь и милосердие, всегда памятовавшей слова апостола: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий. Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви: то я ничто. И если я роздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею: нет мне в том никакой пользы». (1Кор. 13.1—3) К сказанному можно прибавить, что святые – это люди, стяжавшие великую любовь к Богу и ко всему Божиему творению, и, следовательно, они не могут не помогать тем, кто нуждается в их помощи. Эта любовь к людям заставила Матушку, пройдя основные виды аскетического делания и утвердившись в них, принять в конце жизни подвиг старчества, изо дня в день, ежедневно и ежечасно, проводя время с народом, живя его бедами, разбирая бесконечные житейские коллизии, стремясь к достижению торжества христианской любви: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине…» (1Кор. 13,4—6).
Совершенствуясь в подвигах, Матушка жила в постоянном состоянии хождения перед Богом, как-бы ощущая всегда присутствие Божие. К Нему она обращалась, как к родному отцу, независимо от обстановки и окружающих людей, непосредственно и образно, словно прозревая духовными очами мир невидимый и сокрытый от человеческих глаз. Она с помощью Божией глубоко проникала в душу собеседника и читала в ней, как в раскрытой книге, не нуждаясь в его признаниях. Легким, никому не заметным намеком, она указывала людям на их слабости и заставляла серьезно подумать о них. Испрашивая на каждый шаг и действие благословение у Господа, она иногда громко спрашивала Его совета. Исключительное воздержание в пище и сне, воспринятое ею еще в молодые годы, составляло отличительную особенность ее жизни. Вкушала она пищу один раз в день, да и то крайне мало, по средам и пятницам ничего не ела и не пила, в первую и последнюю недели Великого Поста Старица постилась очень строго – без пищи и пития. Часто удалялась в лес для того, чтобы в полной сосредоточенности совершать молитвенное правило. Ночи Матушка проводила в непрестанной молитве, присев на краешке кровати, которая предусмотрительно была устлана множеством мешков, которые не давали возможности для нормального отдыха. Ее многотрудное тело во все дни ее жизни не знало состояния покоя, то есть возлежания на ложе, только в конце жизни Матушка в периоды тяжелых болезней иногда отказывалась от этого правила. Но подвигу своему она все равно оставалась верна – лежала на досках, что уже являлось своего рода аскетическим деланием. Отличительную особенность внешнего облика блаженной составляли «горбы» на спине, создававшиеся ношением иконы святой мученицы Агафии, небесной покровительницы Матушки до ее монашеского пострига. Особым постоянным телесным подвигом было также ношение множества ключей, которые представляли собою своеобразные вериги. Неизменная детская шапочка на голове, носимая и летом и зимою, страдальческая согбенность из-за тяжелых «горбов» – все это составляло внешние знаки юродствования блаженной. При ней невозможна была никакая вольность, фамильярность, легкомысленное поведение, нецеломудренная одежда. Любая тень нескромности становилась при Старице неуместной.
Иногда Матушка могла говорить поначалу непонятные вещи, смысл которых всегда открывался позже. Обличения ее чаще всего не имели указания на конкретную личность – чтобы не смутить того человека, к которому были обращены слова. «Простри ризу твою над согрешающим и покрой его» () Обличая другого, Старица приписывала грехи собеседника себе или же произносила о них как бы между прочим. Например, пришла к Матушке женщина, страдавшая страстью блуда. Старица встретила ее словами: «Ой, какой у тебя чистый подол, а у меня грязный». У женщины была чистая одежда, но произнесенное касалось чистоты души. Или же Матушка могла сказать о себе, что она также страдает от подобной страсти, хотя в действительности это не имело места. Или же вот как Старица обличала пришедшего в том, что тот не читает утренних молитв: «Я такой глупый, – сказала она якобы о себе, – перестал утренние молитвы читать». А потом добавила: «Иди сюда, вот смотри: это читай, и это читай, и это, а это не пропускай…» Преп. Исаак Сирин
Также еще характерный пример, рассказанный одной женщиной: «Однажды я была свидетельницей очень интересного и поучительного события.
Моя знакомая, часто изменявшая своему мужу, попросила меня повести ее к матушке Алипии. Неоднократно я пыталась убедить знакомую в том, что необходимо оставить грех и покаяться в храме на исповеди, но знакомая никак не могла преодолеть себя – она была младше своего мужа и очень красивая, а на мои уговоры отвечала: «Как я могу сказать такое священнику?»
И вот как-то я привела ее к Матушке. Разговариваем. Матушка села к ней и говорит: «Ой, какая ты красивая! У тебя такое платье! – начала нас угощать, привечать, нашла к ней очень тонкий подход, растопила ее сердце, а потом и продолжает, как бы делясь своей тайной, – ой, вот я в молодости такая была! Такая я была в молодости! Гуляла! У меня было много любовников, а вот ты тоже такая красивая…», – и как-то очень быстро Матушка вывела мою знакомую на откровенность, ничего не подозревавшую о юродстве блаженной. А я удивляюсь – как же Старица такое говорит?! Она же никогда такого не делала! Неужели и вправду это было? Келейница Матушки, увидев мое замешательство, кивнула головой и, позвав меня, сказала: «Вы не верьте – Матушка специально на себя наговаривает, чтобы выбить из нее покаяние». Долго моя знакомая думала, думала, а потом в слезы и говорит: «Да, Матушка, у меня тоже в молодости такое было, я гуляла, у меня был любовник…», – и начала все Старице рассказывать: сколько у нее любовников, как она мужу изменяла, про свой блуд, как она со страстями своими мучается… Выслушав все это, Матушка посоветовала ей, чтобы она пошла на исповедь и покаялась, а напоследок добавила: «Ты еще примешь монашество».
В итоге эта женщина полностью оставила блуд, начала постоянно ходить в храм, воцерковилась и впоследствии ушла в монастырь вместе со всей своей семьей. И муж ее и дочь также приняли монашество. Вот так Матушка по благодати имела дар и силу полностью изменить человека и привести его к глубокому покаянию!
Тот, кто понимал сказанное, каялся, но были и такие, которые, воспринимая слова Старицы буквально, клеветали и осуждали.
Праведность всегда вызывает вражду у тех, чьи дела злы. «Устроим ковы праведнику, ибо он в тягость нам и противится делам нашим… он пред нами – обличение помыслов наших. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличны пути его: он… удаляется от путей наших, как от нечистот, ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. Увидим, истинны ли слова его, и испытаем, какой будет исход его…» (Прем. 2,12—20).

