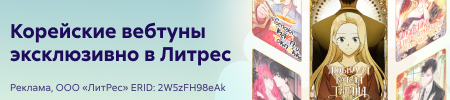Полная версия
Рассказы не про всё
Хозяйства у живших тут забайкальских казаков, что ушли еще в восемнадцатом от красных через Аргунь за границу в Китай, были большие, зажиточные. За почти тридцать лет наладили русские люди здесь жизнь и трудились не покладая рук. Японцы, когда заняли Китай, русских не притесняли, позволяли жить своим уставом. Потому хозяйства в каждом дворе были сильные – коров десятками, гурты овец, лошади, все имелось и находилось в отличном состоянии.
Скот сдавали сами, не роптали, понимали, что помогать своим русским, там, на далекой родине, надо. Старые обиды на советскую власть после такой большой войны не вспоминали.
Живность сгоняли на лед реки и там забивали, чтобы зря не кормить. К концу зимы на льду посредине Дербула было навалено с десяток огромных куч туш разной скотины. На реку боялись ходить и старались туда не оглядываться, такими зловещими высились страшные замороженные мясные горы. Снег заметал их, но все равно чернотой просвечивали туши родных буренок и кучерявых овечек. Двое часовых постоянно менялись, охраняя добро, кутаясь в тулупы на ледяном ветру и притопывая валенками. Мясо должны были увозить подводами на железнодорожную станцию, но все не отвозили, и не отвозили – охраняли.
Когда солнце начало подогревать и с крыш повисли сосульки, народ стал поглядывать на реку. Никаких пояснений ни новоявленное советское начальство, ни солдатики из охраны не давали. Кучи на льду все лежали и становились чернее. Посты охраны перенесли со льда на берег. Солдаты стали огрызаться на местное население, и все чаще звучало: «…вы тут, пока мы там…».
В середине апреля в одну ночь лед стал громко стрелять, и ледоход начался разом быстрый, мощный. Дербул – горная большая река со скорым течением, к утру вода была почти чиста, только отдельные льдины еще проносились мимо, да на берегу лежали несколько прозрачных на изломах глыб, что выбросились с ходу из воды.
Вся деревня: старики и дети, мужики и их жены, высыпали утром на реку. Молча смотрели на быструю воду, туда, вдаль, где за поворотом она уносилась в Аргунь, а потом текла с далеким Амуром к океану.
Освобождение
История вторая
Боев в Трехречье не было. Японцы заранее отступили, покинули район. Накануне их ухода один из японцев, что был знаком с дедушкой, шепнул ему, что ночью уйдут и взорвут комендатуру и казармы. Японцев стояло тут много, была большая часть, как раз напротив дома через улицу. Скоро все русские знали, что будет ночью, и к вечеру вся деревня тихо ушла из своих домов – кто в лес, кто на заимки или еще куда-нибудь в другие деревни к родным и знакомым подальше от Драгоценки. Прадед мой, мамин дедушка Иван Яковлевич, герой русско-японской войны, староста большой церкви в Драгоценке, еще крепкий и статный старик, уходить отказался, остался сберегать дом. Смелость и даже отчаянность он имел немалую – не боялся ни озлобленных японцев, что могли застрелить или пырнуть штыком, ни предстоящих по соседству взрывов. Запасся старый казак ведрами, натаскал бочки воды, приготовил багор и дожидался взрывов.
Рвануло сразу в нескольких местах и потом еще несколько раз кряду. Пожар полыхнул от комендатуры к деревянному забору и казармам. Горело и взлетало в небо все, и скоро пламя стало доставать до дома моих родных. Дед поливал без устали стены и крышу, и не дал дому загореться. Лишь чуть опаленная крыша выдавала отступившую опасность, а зрелище через дорогу напротив было страшным – черные руины и груды камня. Японцы ушли быстро и четко. Поговаривали потом, что обходил их караул русские дома – кого-то искали, но арестовывать уже было некого. Ивана Яковлевича тоже не тронули, а может, не нашли.
Через несколько дней пришли русские. Красная армия прошла через деревню и ушла дальше на восток. Ребятня высыпала встречать танки, и девочки кидали цветы улыбающимся молодым парням в шлемах. Один танк остановился в начале улицы, и его сразу окружили дети от малых до больших. Детей в Драгоценке было много. На башню вылезли солдаты – совсем еще мальчишки с чубами, такими же, как у окруживших их пацанов. Солдатикам было интересно, почему вдруг у китайцев белые европейские лица у детей. Слышно было, как они перешептывались между собой, не зная, как обратиться к местным. «Слышь, они вроде по-русски шпрехают, наши что ли?..» И тем и другим хотелось заговорить, но почему-то никто не решался. Первой вступила в переговоры моя мама – она в свои одиннадцать лет слыла заводилой. Солдатики охотно общались и оказались обыкновенными ребятами, они все вместе смеялись и уже не чувствовали, что чем-то отличаются друг от друга.
Деревенским ребятишкам очень хотелось чем-нибудь угостить симпатичных молодых парней, и мама предложила сбегать по домам и собрать, что можно из еды солдатам. Взрослые сначала испугались за детей, запретили было из дома выходить, но потом все-таки дали молока, свежего хлеба, яиц. Скоро у танка уже было полно народу, и солдат завалили угощениями. Смех и веселье захватили всех, и несколько взрослых тоже подтянулись к компании. Солдат расспрашивали, откуда они, что там в Советской России происходит и как люди живут. Спрашивали осторожно, боясь что-нибудь не то сказать, да и солдатики отвечали с осторожностью, не совсем еще понимая, с кем тут встретились. Танкисты где-то успели нарвать полную пилотку черемухи и теперь в свою очередь угощали местную детвору.
Мама навсегда запомнила тот день – 10 августа 1945 года.
Варежки
История третья
Где-то далеко в России гремела война, скупые и противоречивые сведения иногда доходили оттуда, но взрослые сами не знали, что думать, потому и детям не знали, что рассказать. А в Китае хозяйничали японцы. Зима в Трехречье стояла серьезная, сибирская. Дедушка мой – Иван Иванович, мамин отец, работал тогда счетоводом на строительстве железной дороги в тайге. Дорогу строили японцы. Ко всему, особенно к работе, японцы относились строго – во всем был порядок и жесткий контроль. Строительный участок был от Драгоценки далеко. Работники там и жили на месте, а выбраться домой удавалось редко. Однажды Ивана Ивановича отпустили к семье на один день. Надо было несколько десятков километров проехать по новой железной дороге, а потом еще с десяток верст от полустанка добираться до своего села пешком. Путь долгий, не простой. Лишь в уже наступившие ранние декабрьские сумерки он появился в доме, замерзший и уставший.
Тогда маму потрясло, что ее отец пришел домой без рукавиц – то ли забыл где-то в поезде, то ли обронил по дороге. Руки его были красными, распухшими, хорошо еще, что не обморожены. Он согревал их в карманах тулупа и стоял, улыбаясь счастливой улыбкой облепившим его дочерям и посматривая на выглядывающего из-за печки самого младшего и единственного сына.
Когда отец ушел спать, десятилетняя его дочь, устроившись тихонько за большим столом в горнице под светом тусклой керосиновой лампы, начала вязать варежки. Еще ей было поручено рано-рано утром разбудить отца, чтобы он успел добраться до железной дороги на проходящий поезд и вернуться на работу без опоздания. Варежки она вязала крючком и не из спряденных шерстяных ниток, а прямо из овечьей шерсти, вытягивая бесконечный жгут из пучка и на ходу скручивая его в грубую толстую нить. Она решила, что должна во что бы то ни стало успеть связать варежки своему папе.
Семья спала. За окном черная холодная ночь. В доме очень тепло от еще жаркой большой русской печки, и иногда слышны потрескивания толстых бревен дома от мороза. Глаза устали и сами собой слипаются в такой простой и желанный сон, а пальцы все чаще сбиваются и пропускают петли. От этого она вздрагивает, распутывает нить, отгоняет дрему и вяжет дальше. Она не сдастся и свяжет варежки, но лишь бы успеть до утра, когда надо будет разбудить отца. Первая варежка была самой трудной, долгой, а вторая вязалась быстрее, увереннее. Руки словно двигались сами четко и точно. На ходиках, что постукивали-щелкали над головой, было почти три, когда она закончила первую варежку. Вторая варежка аккуратно вырастала, мягкая, пушистая, приятная на ощупь. Иногда в шерсти попадались травинки, какие-то колючки. Их приходилось выбирать, вытягивать из шерсти, чтобы они потом не кололи руки. Пальцы снова стали сбиваться, а шерсть путаться, когда уже довязывала большой палец – последний этап вязки. Она справилась, успела. Посмотрела на часы – еще оставался целый час. Дочь разгладила готовые варежки, сложила их вместе и положила на уступ теплой печи, чтобы они согрелись перед тем, как их наденут на руки. Снова вернулась за стол и, положив голову на руки, стала ждать назначенного времени, чтобы его не прозевать…
Проснулась она от того, что в доме бегали, шумели и гремели посудой. Отец уже оделся. Он стоял в валенках и ватных брюках и надевал тулуп, а мать уговаривала его поесть «хоть чуть-чуть…», а потом быстро скидала еду в узелок и дала отцу. На нее же никто не обращал внимания.
– Папа, прости, я проспала.
– Ничего, дочка, не расстраивайся, я успею. Ты же знаешь, как я умею быстро бегать, – отец обнял дочь. – Не скучай.
– Варежки вот тебе связала, возьми и не мерзни больше…
За окном было еще темно. Даже не было ни малейшего намека на рассвет, и папу было совсем не видно, как он шел через двор. Слышен был только скрип снега от его шагов, но и он скоро затих.
…Не про всё
Облепиха
Катер отходил ровно в семь, и мы с братом, сонные, не понимали, что происходит и куда торопимся в такую рань. Но когда оказались на берегу у дощатого узкого трапа, было уже не до сна, все было захватывающе интересно. Катер казался огромным кораблем, а люди вокруг, что поднимались на него, – необыкновенно таинственными. Пассажирами, в большинстве, были женщины, у каждой было по одному, а то и по два ведра. У нашей мамы в руках тоже было большое зеленое эмалированное ведро. Как нам объяснила мама, мы пошли за облепихой.
Тогда садовой облепихи не знали, собирали дикую. Ее зарослями был покрыт весь берег Катуни с обеих сторон, но со стороны села берег был высокий, она росла только на небольших полянах-зимниках, и потому здесь ее собирали редко. А вот на левом пологом берегу она росла свободно по всей пойме реки, образуя плотные заросли. На том берегу у совхоза было отделение, куда катер ходил по расписанию три раза вдень. Большинство женщин с ведрами и плыли в то утро на заработки – собирать и тут же сдавать облепиху за небольшие деньги приемщикам витаминного сырья.
Думаю, что мне было тогда четыре с половиной года, а значит, брату моему – три. На катере мы оказались впервые, и, конечно, это было главное. Сидели мы по бортам на деревянных скамьях и держались руками за ограждение – цепь, покрашенную голубой краской. Мама строго велела держаться за поручни и сама в них вцепилась крепче нашего. Перед тем как отчалить, катер издал оглушающий воющий сигнал-сирену. Этот сигнал мы слышали ежедневно дома. Издалека он казался негромким приятным гудочком игрушечного парохода, а теперь он нас сразил своей мощью, было в нем что-то вольное, стремящееся вырваться и умчаться далеко-далеко.
Течение Катуни – быстрое, катеру нужно было идти против него, и казалось, если смотришь на берег, что он стоит на месте, только со временем можно было заметить, что мы все-таки движемся. А если смотреть за борт на воду, то казалось, что мы мчимся, как на ракете. Мы с братом стали смотреть на белесо-зеленоватую воду, показывая друг другу на огромные буруны, что время от времени появлялись рядом. Нам представлялось, что оттуда сейчас вынырнет огромная чудо-рыба. Мама все одергивала нас, боялась, что вывалимся за борт и не давала лишний раз повернуться – посмотреть по сторонам. Катер шел, казалось, очень долго. Мы уже клевали носом, когда вдруг неожиданно рядом оказался противоположный берег и катер, как тараном с разбегу, пробороздил носом пологий берег из мелкой гальки. Трап спустили прямо с носа, а не с борта, и он уходил вниз крутой горкой. С трапа нас подхватил и поставил на землю какой-то бородатый страшный дядька. Он и маму нашу хотел подхватить, но она отмахнулась от него и, осторожно балансируя руками, спустилась сама. Мама взяла брата за руку, в другой руке у нее было зеленое ведро, и мы пошли вдоль берега по тропе. Я все боялся отстать, и когда дистанция между нами увеличивалась и цветастый подол ее платья только начинал прятаться за кустами, бегом догонял их.
Наверное, мы шли долго, потому что когда вышли к протоке, что ответвлялась от основного русла Катуни, то видно было, что мы оказались значительно ниже нашего села, что осталось на другом берегу. Катунь в главном русле мощно и быстро несла свои холодные воды, к ней даже страшновато было подходить близко. В протоке же вода была тихой и чистой. Было видно дно и стайки мелкой рыбы. Какое-то время мы с братом наблюдали за рыбешками. Когда они всей стайкой вдруг делали крутой разворот и отплывали, то их белые бока пускали в нас много-много солнечных зайчиков. Когда проплывали несколько чебаков покрупнее, стайка мальков мгновенно исчезала куда-то и потом, словно из ниоткуда, появлялась снова. Солнце поднялось выше кустов и уже хорошо согревало. Мама разложила наше нехитрое снаряжение, расстелила клеенку на траве и достала еду. Есть уже давно хотелось.
Ломать ветки облепихи было нельзя. Мама рвала ягоду с куста в большой ковш, из которого потом пересыпала ее в ведро. Нам с братом следовало из ведра выбирать попавшие туда листья и сучки. Это было скучно. Самим рвать ягоду у нас не получалось, она была высоко, не достать, да и острые колючки на ветках не подпускали, даже если и можно было до яркой ягоды дотянуться. Однако мы все равно по одной ягодке то с одного куста, то с другого, каждый в свою маленькую кружечку, что-то насобирали. У нас был свой маленький белый бидончик, на котором была нарисована ярко-оранжевая веселая белка, туда мы свою детскую добычу старательно ссыпали. Потом мама сломала нам все-таки по несколько небольших, но рясных веточек, и, сидя на клеенке, мы с усердием их обирали. Уже голые, без ягод, ветки потом сбросили в реку. Река подхватила их, явно желая нам помочь. Словно узнав каким-то образом о сломанных ветках, где-то вдалеке на дороге за кустами появился егерь на коне. Мама прижала нас к себе, и мы, затаившись, ждали, когда страшный дядя егерь уедет. Конь его фыркал, не желая лезть в колючие кусты. Егерь гикнул на него, и вскоре они умчались по пыльной дороге. Нас он не увидел.
Очень ценили облепиху в наших местах. Но был запрет на самостоятельный сбор дикой ягоды. Собирать её можно было только по специальному разрешению – бумажке с печатью. У кого бумаги не было, у тех собранную ягоду отбирали егеря. Нам нужна была ягода для себя, и наш сосед, лесник дядя Кузьма, выдал маме нужную бумагу. Но даже с бумагой мама очень боялась егерей и все старалась укрыться от их глаз и нас подталкивала, чтобы не маячили на виду.
Мама все собирала и собирала облепиху, а мы то бегали к протоке посмотреть на воду и рыбок, то смотрели в небе за коршуном, что стал кружить прямо над нами, то исследовали заросли дикого хмеля и крапивы, то срывали сочные сладко-кислые ягоды крупной ежевики, что росла тут же в изобилии. Когда нас сморил сон, из своей косынки мама соорудила небольшой навес на двух ветках. Под ним мы проспали еще очень длинную часть этого дня. Когда мы с братом проснулись, мама сидела рядом. Руки ее сплошь были покрыты маленькими черными точками от уколов шипами облепихи и пахли соком ягоды. После сна снова хотелось есть. Мама сказала нам, что если хлеб макать в воду реки, то это будет самая вкусная еда, которую дома попробовать нельзя. Стоя рядом друг с другом на камнях у протоки, мы макали хлеб в воду и смеялись. Вода была холодной, капли стекали по рукам, шее и падали на рубашку. Это был действительно самый вкусный на свете хлеб.
Обратный путь к причалу запомнился только тем, что мы очень спешили, боясь опоздать на вечерний катер. Мама несла брата на руках всю дорогу – одной рукой держала его, а другой ведро с облепихой. Я семенил сзади, сжимая в руке свой бидончик. На причале было шумно и людно. Два егеря, один с весами в руках, другой у трапа катера, громко ругались. На катере, который уже стоял у берега, сидело несколько человек, но внизу у воды было еще полно народу. Кто-то стоял в очереди к егерю с весами, чтобы взвесить ягоду, кто-то поднимался по трапу, а часть людей просто толпилась, собираясь подняться на борт. Второй егерь спорил с какой-то женщиной, что пыталась прорваться к трапу. У нее было огромное ведро полное облепихи. Егерь снимал фуражку с кокардой, вытирал мокрый лоб и орал на женщину, что не пустит ее и не даст пронести ягоду. Мы с братом испугались этого страшного егеря, который так громко кричал. Еще рядом с ним стоял черный конь под седлом и угрожающе переминался с ноги на ногу. Мы спрятались за маму и старались больше не смотреть на страшного дядьку. Женщина, которую не пускали, тоже громко что-то кричала и размахивала руками. Потом она выхватила свое ведро из рук егеря, махом, словно выплеснула воду, высыпала облепиху из ведра на землю и стала топтать сочные ягоды. Ягоды рассыпались по пыли, часть их скатывалась ручейком по уклону берега в холодную воду. Женщина, утирая слезы, поднялась по трапу. Потом, пока плыли, я видел ее еще раз – она плакала, повиснув руками на голубых поручнях, и ветер трепал ее косынку, будто пытаясь утешить.
Мы прошли на катер без препятствий. Наверное, бумага была действительно важной, но мы с братом видели, как мама волновалась и боялась егеря. На катере некоторые женщины тоже были с облепихой. У них были полные с горкой ведра, повязанные сверху платками. В нашем зеленом ведре было не столько много красивой и замечательно вкусной облепихи – ягоды моего детства. А еще у нас был наш маленький бидончик, тоже неполный, но очень дорогой для нас, c нарисованной белкой, точно такого же оранжевого цвета, как та яркая кучка высыпанных на землю ягод.
На обратном пути по течению катер летел с огромной скоростью, и это было не менее здорово, чем когда мы плыли утром. Когда наш корабль сделал резкий поворот за островом Медвежьим, у меня перехватило дыхание от восторга, а брат засмеялся. Катер замедлил ход и плавно подошел к берегу. Наше большое путешествие закончилось.
В походе
– Говорил же русским языком: близко к печке ничего не ставить, не вешать – сгорит. А ну, дай сюда, посмотрю, – Бурав выдернул из рук Веры ботинок-вибрам и разглядывал его покореженный кожаный носок и слегка обгоревшую резиновую подметку. Он был скорее удовлетворен тем, что оказался прав, чем расстроен случившимся.
Расстроены были остальные. Особенно виновница Вера. Хотя она, казалось, еще не понимала, что случилось, и, сидя перед печкой на куче елового лапника, беспомощно улыбалась.
– Ну и что делать будем? – Бурав передал ботинок по кругу, чтобы все увидели глубину проблемы. – Она не сможет теперь маршрут пройти.
– Да уж, серьезно скрючило, – Костя почесал курчаво-лохматую голову и передал ботинок дальше.
– Может, отремонтируем, а, ребят? – Альфия чуть не плакала. Она переживала за других больше, чем за себя.
– Вер, ты попробуй надеть его. Может, и не так страшно, – Макар был самым спокойным. С ним считались, и иногда казалось, что это он, а не Бурав, руководитель группы.
– Да какое там… – Бурав – Вовка Бураев, разозлился еще больше.
– Надевай, – Антон протянул ботинок Вере. Он из всех был самым опытным, хотя никогда не высовывался и редко вообще что-нибудь говорил.
Вера взяла ботинок и, вконец смущенная вниманием к тому, как она будет обуваться, стала его натягивать на шерстяной носок. Альфия и Машка стали ей помогать. Ботинок не лез. Кое-как его натянули на тонкий носок, без шерстяного. Видно было, что Вере ботинок тесен, но она старалась справиться с эмоциями.
– Нормально.
– Встань на него.
– Подметку можно парой стежков по канту прошить, а кожа чуть подмокнет и растянется, мерзнуть только будет, – Костя был ответственным за ремонт снаряжения.
– И что, она босиком в двадцатиградусный мороз будет идти? Кто отвечать за это потом будет? – Бурав злился все больше.
– Вова, я правда смогу идти, – в голосе Веры прозвучала твердость. – А на остановках буду разуваться и ногу греть. Можно еще поверх ботинка в бахилы чем-нибудь его утеплить. Не переживайте вы за меня. Сама виновата…
– Раньше думать надо было. А теперь я тебя должен с маршрута снять. – Бурав, похоже, не ожидал от себя такой решимости. Все замолчали и смотрели на него.
– Ну знаешь что, Бурав? Ты последний, между прочим, у печки дежурил, мог бы и подвинуть ботинок в сторону, раз увидел, – Машка встала, насколько ей это позволяла высота палатки, и нависла над их руководителем, грозная и большая.
– Если бы увидел, убрал бы. Я еще и виноват?
– Да никто тебя, Бурав, не винит. Но думать надо и решать быстрее. Может, и ничего страшного, дойдет Вера, – в голосе Макара уверенности не было.
– Ладно, раз вы считаете, что я решение неправильное принимаю, что… Давайте тогда пусть все выскажутся и будем голосовать. Антон?
– Наверное, Бурав прав, лучше Вере вернуться.
– Костя? – Бурав после поддержки Антона, на которую не очень рассчитывал, стал решительней.
– Я думаю, что пусть Вера сама решит, сможет ли она идти.
– Это не ответ. Ты «за» или «против»?
– Воздержусь. Чего ты наезжаешь, Бурав? Не обязан я такое решение принимать. Ты начальник, ты и решай, а лучше пусть Вера сама…
– Я решение приму, когда всех выслушаю, – Бурав немного унял начальственный пыл. – Ну что ты сама скажешь, девица наша?
– Ребята, дойду я, справлюсь. Конечно, вас мне подводить не хочется, поэтому, если считаете, что буду мешать, то… Как скажете, – похоже было, что только теперь до нее дошло, что случилось серьезное, и ей, возможно, придется вернуться домой, а группа пойдет дальше без нее.
– Альфия?
– Я за то, чтобы Вера шла с нами дальше. Она сможет, и мы будем помогать.
– Ну теперь тогда Машка, чтобы уж сразу всех женщин выслушать.
– А ты женоненавистник, Бурав? Чего это ты нас так обособил? Я тоже считаю, что Вера сможет идти. Она еще фору кое-кому тут даст. Она, между прочим, больше всех тренировалась, да и поход у нее не первый.
– Понятно с вами. Ну давай теперь ты, Макар, скажи, – именно решение Макара для Бурава было важным.
– Снимать Веру надо. Не дело это, в самом начале похода так попасть. Мы ж не знаем, что нас еще дальше ждет. Не думайте, что легче будет.
Трое парней было за то, чтобы вернуть Веру домой, три девушки были против, один воздержался – нейтральный. Но у них был еще восьмой член команды.
Юрка был первокурсником, застенчивым пареньком, которого часто не замечали или забывали про него. В этот поход – серьезную лыжную «двойку» по Южному Уралу с подъемом на вершину Ямантау, его взяли почти случайно. Он попросился к ним после своего первого похода в «единичку» в Бузулукском Бору, и его руководитель Бочкин (Витя Бочкарев) – непререкаемый авторитет в их студенческом клубе, дал хорошую рекомендацию Бураву на него. Юрка сидел в глубине палатки, еще не совсем отойдя ото сна, смотрел на всех со стороны, словно его это не касалось. Он не мог долго заснуть в эту первую ночь их похода из-за того, что рядом с ним в палатке оказалась красавица Альфия, и несмотря на то что на него она, естественно, никак вообще не реагировала, его это волновало. Заснул он уже под утро, после того, как отдежурил свой час у печки и лег на новое место с краю. Юрка не ожидал, что спросят его мнение. Оказалось, что теперь именно от него и зависело, пойдет ли с ними дальше Вера.
– Я не знаю, вообще-то.
– Ну вот еще один уклонист. Давай, парень, определяйся. В походах приходится решения принимать, иначе из тебя ничего путного не выйдет.
– Наверное, тогда все-таки лучше ее вернуть. Тяжело будет еще восемь дней с таким ботинком…
– Ну что ж? Тогда будем считать, что большинством решение принято. Снимаем. Антон, возьмешь Верин рюкзак, она – твой с самым необходимым. Проводишь ее на вокзал в Миас, дальше она сама, а ты к концу дня налегке по лыжне нас нагонишь. Сегодня далеко не уйдем.
Когда Юрка выбрался последним из палатки, он увидел, как все три девушки стояли в стороне от костра. Вера и Альфия, обнявшись, плакали, а Машка стояла с ними рядом и сердито посмотрела на него, Юрку. Бурав с Антоном что-то обсуждали у костра, остальные были заняты сборами. Из котла для чая уже вовсю валил пар, а каша была накрыта крышкой. Хотелось есть. Мороз за ночь усилился и быстро вытянул все тепло из-под сразу вставшей колом анораки. Юрка чувствовал себя виноватым. Теперь он жалел, что высказался за уход Веры, но было поздно что-то менять. После завтрака стали укладывать рюкзаки. Все происходило молча. Костя с Макаром складывали палатку. Дело это было непростое: палатка за ночь покрылась ледяной коркой, и теперь ее приходилось долбить, чтобы сложить в несколько раз и стянуть чехлом с ремнями, как у рюкзака. Палатку нес самый крепкий из них – Макар. Как только палатка была упакована, Антон с Костей повесили ее ему на плечи. Макар слегка пошатнулся на лыжах, но устоял и скоро, не дожидаясь других, пошел в глубь леса. Остальные еще с полчаса собирали свои рюкзаки и потом догоняли медленно идущего Макара. Антон с Верой проводили всех и тогда сами встали на лыжи.