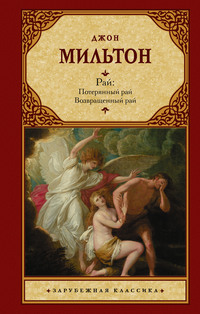полная версия
полная версияПотерянный рай
Вот почему я против войны явной или тайной, – все равно! Ни силой, ни хитростью, мы ничего не можем сделать против Него. Кто обманет Его премудрость или Его всевидящее око? И теперь Он с небесных высот видит все наши тщетные стремления и смеется над ними: насколько Он всемогущ, чтобы разбить наши силы, настолько же и премудр, чтобы уничтожить все наши коварные замыслы.
Но неужели мы должны вечно терпеть такое унижение? Мы, дети Неба, будем попраны, изгнаны и осуждены на мучения?! Увы, по-моему, лучше переносить это ужасное состояние, чем навлечь на себя еще худшее. Над нами тяготеет иго неизбежной судьбы, мы должны покориться всемогущему определению, воле Победителя. Что страдать, что действовать, силы наши одинаковы, и справедлив закон, который так устроил. Если бы мы были благоразумнее, то должны были подумать об этом, вступая в сомнительную борьбу с таким сильным Врагом.
Смешон мне тот, кто храбр, предприимчив перед боем, но как только оружие изменит ему, – трепещет перед последствиями; его страшит приговор Победителя, ссылка, бесчестие, цепи, страдания. Такова теперь наша доля: покоримся, перенесем ее терпеливо; может быть, гнев нашего Высокого Победителя смягчится со временем; мы так отдалены от Него, что Он, может быть, забудет нас, если не раздражать Его, и довольствуется теперешним наказанием; ярость этого пламени, не раздуваемого больше Его дыханием, может быть, ослабеет мало-помалу. Тогда наше чистое естество восторжествует над этим зловредным смрадом, или, освоясь с ним, мы не будем его чувствовать; наконец, самая природа наша так изменится, так приспособится к месту, что мы будем переносить этот палящий жар легко, без страданий! Теперешний ужас пройдет со временем, мрак просветлеет, и, кроме того, кто знает, какие надежды может принести нам непрерывное течение грядущих дней? Какие перемены, какие судьбы? Злополучна теперь наша участь, но ее можно назвать счастливой, – она еще не худшая, и не ухудшится, если мы сами не навлечем на себя еще больших зол». – Так Велиал, прикрывая речь личиной благоразумия, советовал не мир, а малодушный, праздный покой, постыдное бездействие.
После него заговорил Маммон: «Какая будет цель нашей войны, если мы решим ее вести? Свергнуть с престола Небесного Царя и возвратить наши потерянные права? Свергнуть этого Царя! На это можно надеяться тогда лишь, когда изменчивый Случай станет законом судьбы и Хаос – судьей нашего великого спора! На первое так же тщетно было бы надеяться, как и на второе. Какое же место можем мы занять в небесном пространстве, не победив великого Царя Небес? Положим, Он смягчится, объявит всеобщее помилование, взяв с нас новую клятву в покорности; с каким чувством будем мы, в этом унижении, стоять перед Ним, принимая строгий закон славословить в гимнах его величие, петь в Его хвалу притворные аллилуйя, в то время как Он, наш грозный Царь, Которому мы будем мучительно завидовать, будет восседать на Своем троне, и к алтарю Его станут возноситься благоухания амврозии и ароматы цветов, наших раболепных приношений! И в этом будут заключаться все наши обязанности, вся наша отрада на Небе! Целую вечность поклоняться Тому, Кого ненавидишь! О, как это тяжко! Зачем же стремиться к тому, чего приобрести силой невозможно, и чего мы сами не могли бы принять как милость; зачем добиваться нам пышного рабства, хотя бы это было даже на Небесах!
Постараемся лучше найти счастье в самих себе; в этом обширном пространстве будем жить для себя, независимо, никому не давая отчета, предпочитая тяжелую свободу легкому игу пышного раболепства. Здесь мы увенчаем себя еще большей славой, если ничтожными средствами будем достигать великих целей, вред превращать в пользу, из бедствия создавать счастье. Наконец, перестрадав, перетерпев наши муки, мы достигнем спокойствия и будем даже благоденствовать здесь.
Может ли страшить нас этот глубокий мрак? Разве вокруг Вседержавного трона Царя Небес не собираются иногда темные тучи, но это не омрачает Его славы. Он окружает Себя величием мрака; из черных туч гремят громы, и тогда Небо становится похожим на Ад. Разве мы не можем подражать его свету, как Он подражает нашему мраку? В этой пустынной стране скрыто много сокровищ, много драгоценных камней, золота. У нас хватит искусства превратить их в чудеса великолепия: какой же больший блеск может выказать Небо? Между тем, со временем, муки наши сделаются нашей родной стихией; этот жгучий огонь, нестерпимый теперь, станет нам приятен, наша натура, сроднясь с болью, станет нечувствительна к ней. Итак, все склоняет нас к миру, к прочному порядку вещей; обдумаем, как всего лучше можем мы успокоиться в настоящем бедствии, сообразно с тем, кто мы и где наше жилище, отказываясь от всякой мысли о войне. Вот мое мнение.»
Едва он закончил, как по всему собранию прошел ропот, как будто из горного ущелья вырвался сдержанный в нем гул ветра, что всю ночь волновал море и только к утру своим хриплым свистом убаюкал измученных усталостью и бессонницей моряков, корабль которых после бури бросил якорь в утесистом заливе. Такой шум раздался от рукоплесканий, когда Маммон закончил свою речь; его советы сохранить мир привели в восторг все собрание, так как второй подобной войны все страшились хуже самого Ада: такой ужас вселил в них небесный гром и пламенный меч Михаила. У всех было теперь одно желание: основать в этой глубине царство, которое бы при мудром управлении, с течением веков, возвысилось до соперничества с Небом.
Вельзевул – Дух, занимавший высшее место после Сатаны, проникнув в их мысли, вдруг встает с важной, величественной осанкой; казалось, будто поднялся столб всего царства: великие думы, заботы об общем благе глубоко запечатлены на строгом челе его; в спокойных чертах его лица отражается мудрость царя; и в упадке он был полон величия. Этот могучий Ангел способен был на своих плечах нести тяжесть могущественнейших монархий. Одним взглядом он повелевает собранию молчание, и когда он заговаривал, все слушали его с тихим, как ночь, вниманием.
«Престолы и Царские власти, сыны Неба, бессмертные боги! Должны ли мы теперь отказаться от этих титулов и переименоваться в Царей Ада? Да, потому что общее желание клонится к тому, чтобы оставаться в этих местах, с целью создать здесь новое, со временем могучее царство. Но разве это не одна мечта! Разве вы не знаете, что Царю Небес вовсе не угодно было бросить нас в эту тюрьму, как в безопасное убежище, куда бы до нас не могла достигнуть Его державная рука, где бы мы жили вне Его власти, вне Его высоких законов, и безнаказанно составляли новые заговоры против Его трона? Нет, мы, как толпа рабов в тяжких оковах, должны вечно томиться под гнетом неизбежного ига. Будьте уверены, в небесных высях и в адских пропастях, Он всегда и везде будет Единым Царем, первым и последним; наше восстание не лишило Его ни малейшей частички Его царства. Власть Его точно так же простирается и над Адом; здесь он будет управлять нами железным скипетром, как на Небе управляет золотым. К чему же служат все наши рассуждения о войне или мире? Однажды мы уже решились на войну, и были разбиты с невозвратной потерей. Никто не просил мира, а разве существуют мирные договоры между победителем и его пленными? Какого мира ждать нам, покоренным рабам, кроме строгого заточения, оков и произвольно налагаемых наказаний? А мы, какой мир можем мы предложить со своей стороны, кроме единственного в нашей власти – злобы, ненависти, непримиримой вражды, мщения, медленного, но неустанно изыскивающего средства, как бы отнять у Победителя плоды его побед и отравить ту радость, какую доставляют Ему наши страдания? Нет смысла нам предпринимать опасную войну против Неба и осаждать его высокие стены, которым не страшен ни приступ, ни осада, никакие адские мины.
Нельзя ли придумать какое-нибудь более безопасное предприятие? Есть одно место (если пророческое сказание, издревле существовавшее на Небе, не ложно), другой мир, счастливое жилище какого-то нового существа, называемого Человеком. Он во всем сходен с нами, хотя не столь совершенен и могуществен, но возлюблен небесным Властителем выше всех созданий; Сам Он, в собрании богов, объявил на это Свою волю, подтвердив ее клятвой, потрясшей Небеса. Вот к этому новому миру направим все наши мысли, исследуем, какие создания живут там, из какого вещества они созданы, какими одарены качествами, в чем их сила, в чем их слабость; узнаем, как лучше напасть на них, хитростью или насилием. Путь к Небу закрыт для нас; Всевышний Владыка спокойно восседает там, твердо уверенный в Своей силе, но тот мир, может быть, лежит где-нибудь далеко от небесного царства, и охрана его представлена самим его обитателям. Может быть, нам удастся достигнуть там чего-нибудь: или мы опустошим весь тот мир, внезапно напав на него и спалив его адским пламенем, или неограниченно завладеем им, как нашей собственностью, и изгоним слабых его обитателей, точно так же как были изгнаны мы сами, или же не будем их изгонять, а лучше привлечем их на свою сторону; тогда Бог, их Творец, став их врагом, с раскаянием, собственной рукой уничтожит Свое же создание. Это превзойдет обыкновенное мщение; мы смутим радость, какую Ему доставляет наше несчастье, а сами возликуем от Его смущения, когда Он увидит, как нежно любимые Им дети стремглав полетят в бездну, чтобы разделять наши муки, и станут проклинать свое тленное рождение и счастье, так скоро погибшее. Подумайте, что лучше: решиться на эту попытку или сидеть здесь во мраке!»
Эта адская мысль раньше приходила Сатане, и отчасти была высказана им: кто же, кроме него, виновника всех зол, мог придумать такое черное злодеяние – сгубить человеческий род в самом корне, опутать Землю своими сетями, смешать ее в одно с адом, все это в насмешку Всесильному Творцу? Но их ненависть всегда служит лишь возвеличению Его славы. Дерзкий план Вельзевула привел в восторг всех представителей Ада; глаза их засверкали радостью. Все единодушно подают голос за предложение Вельзевула, и он так продолжает свою речь:
«Бессмертные, вы мудро обсудили, мудро окончили продолжительный совет: ваше великое решение соответствует вашему величию; оно поднимет нас из глубины преисподней и, назло судьбе, снова приблизит к нашему первоначальному жилищу. Может быть, вознесясь к блестящим пределам, при помощи оружия, преследуя свою цель, мы наконец пробьем себе путь в Небо, или, по крайней мере, найдем убежище в какой-нибудь иной сфере, куда будет проникать чудесный свет Небес; там благотворные лучи востока разгонят эту тьму; чистый, прозрачный воздух дыхнет на нас своим ароматом и залечит язвы, причиненные этим разъедающим пламенем.
Но кого же мы пошлем разыскать тот новый мир? Кто способен на это? Кто решится измерить блуждающими стопами неизмеримую бездну, мрачную, бездонную? Кто отыщет неведомый путь сквозь эту осязаемую мглу, чьи крылья столь неутомимы, чтобы удержать над необъятной пропастью, пока он долетит до счастливого острова? У кого хватит столько сил, столько уменья? Какой хитростью пройдет он мимо ангельской стражи, бдительно и зорко охраняющей все пространство до Неба? Тут нужна чрезвычайная осторожность; строг должен быть наш выбор; ведь мы вверяем этому посланцу всю нашу надежду, последнюю надежду!»
Он закончил и сел, пытливо устремив глаза на собрание; он ждал, кто согласится с ним, или будет его оспаривать, но все безмолвны, все погружены в глубокую думу, взвешивая опасность; каждый с изумлением читает на лице другого тот же ужас, какой леденит его самого. Между всем этим цветом небесного воинства, между всеми этими героями, не побоявшимися объявить войну Небу, не находилось никого, кто бы отважился вызваться или согласиться в одиночку предпринять страшное путешествие. Наконец, Сатана, который теперь в своей славе возвышался над всеми своими собратьями, с царственной гордостью, полный сознания своего превосходства, спокойно произносит:
«О Небесное племя, не без причины поражены мы недоумением и храним глубокое молчание, мы, неустрашимые. Длинен и тяжел путь, ведущий от Ада к свету; тюрьма наша крепка; этот громадный огненный свод, угрожающий пожрать нас в своем неистовом пламени, окружает нас девять раз; врата из горящего адаманта крепко заперты над нами и непреодолимо заграждают всякий выход. Но если кто-нибудь и прошел через них, если только это возможно, его встретит тотчас же глубокая пустота хаотической Ночи; широкая ее пасть поглотит дерзкого, который отважится погрузиться в ее бездну, угрожая ему совершенным уничтожением. Если же он избежит ее и попадет в какой-либо новый мир или неведомую страну, что ожидает его? Неизвестные опасности. А бегство трудно. Но, о благородные мои собратья, я не был бы достоин этого трона, не заслуживал бы своего царского сана, окруженного величием и облеченного властью, если бы препятствия и страх перед опасностью удержали меня от попытки на то, что вы признали необходимым для общего блага. Как я, приняв на себя царское достоинство, власть, откажусь от опасностей, так же неизбежно связанных с моим саном, как и принадлежащие ему почести! Чем выше тот, кто царствует, тем больше выпадает на его долю того и другого. Итак, могучие Власти, гроза Неба, несмотря на ваше падение, вы оставайтесь здесь, пока здесь должно быть наше жилище, и придумайте, чем облегчить настоящее бедствие и сделать Ад более сносным, если есть такое средство, такие чары, чтобы утешить, успокоить, заглушить страдания этой ужасной жизни. Бдительно следите за недремлющим врагом, а я полечу через черную бездну и за пределами хаоса попытаюсь найти избавление всем нам. Я один беру на себя это предприятие, – никто не разделит его со мной!»
С этими словами Монарх поднимается, предупреждая тем всякое возражение. Он боялся, чтобы другие полководцы, воодушевленные его примером, не вызвались теперь (будучи уверены в отказе) на то, чего так страшились минуту назад; между тем, это поставило бы их в ряды его соперников и им бы дешево досталась слава, которую ему предстояло приобрести ценой громадной отваги. Но повелительный голос их царя страшен им не меньше, чем самое предприятие; все разом встают вместе с ним, и шум, какой они производят, подобен отдаленным раскатам грома. Все раболепно преклоняются перед ним, восхваляют его как бога, равного Всевышнему Царю Небес: они выражают в своих хвалах, как высоко они ценят то, что он жертвует собой для общего блага. При всем упадке этих отверженных Духов, все добродетели не заглохли в них: пусть на земле порочные люди не хвалятся прекрасными на вид делами, которые внушают им одно высокомерие или затаенное тщеславие, прикрытое маской благородного рвения.
Так мрачно кончились их нерешительные совещания, и они превозносят своего несравненного властелина. Так, пользуясь сном северного ветра, поднимаются с горных вершин темные тучи и застилают собой улыбающееся небо; угрюмая стихия засыпает потемневшие луга снегом или изливает на них ливни; если же к вечеру солнце ласково улыбнется прощальными лучами, – поля оживают, птички снова начинают щебетать, блеющие стада наполняют холмы и долины радостными звуками. О, стыд людям! Между демонами царствует нерушимое согласие, один человек живет в вечном раздоре с себе же подобным разумным созданием. Несмотря на то, что его поддерживает надежда на божественное милосердие, несмотря на заповедь Божью, провозглашающую мир, он постоянно возбуждает вражду, ненависть, ссоры; в кровопролитных войнах люди опустошают землю, уничтожают друг друга, будто у них и без того мало адских врагов (что должно бы побуждать нас к согласию), которые день и ночь хлопочут об их гибели.
Стигийский[57] совет окончился; расходятся великие адские чины. Среди них гордо шествует их могучий властелин; казалось, он один мог быть противником Неба, как был единственным грозным царем ада. В пышном своем великолепии подражая блеску Всевышнего, он окружен сонмом пылающих серафимов, с блестящими знаменами и грозным оружием. Он повелевает трубными звуками возвестить великое решение совета. Немедленно четыре быстрокрылых серафима, обратясь к четырем странам света и приложив к губам звучный металл, трубят великую весть; далеко разносится она по всем ущельям ада; отовсюду раздаются ей в ответ оглушительные восторженные крики.
Затем, успокоившись и ободряя себя надменной, но ложной надеждой, адские духи понемногу расходятся в разные стороны: каждый идет, куда влекут его наклонности или печаль, туда, где всего больше надеется найти мир для бескопойных дум или рассеять чем-нибудь скуку до возвращения великого повелителя. Один, скользя по долине, другие, рея в воздушной выси, стараются переспорить друг друга в беге или полете, как бывало на Олимпийских играх или в состязаниях на Пифийских полях. Тут – укрощают огненных коней, там – перегоняют на быстрых колесницах, в третьем месте становятся в строй целые полки. Так, в туманных высях бывают видения, служащие надменным народам знамением кровопролитных войн. Кажется, будто в облаках выступают два враждебные полчища; с каждой стороны, сначала первые ряды воздушных воинов устремляются вперед, склонив копья, потом бесчисленные их легионы смешиваются, уничтожают друг друга, и весь небесный свод, от одного конца до другого, пылает заревом. Другие отрывают скалы, целые горы, и бешеным вихрем несутся по воздуху. Ад едва выдерживает безумную скачку. Так, когда Алкид[58], возвращаясь после победы из Эхалии, вдруг почувствовав действие яда, которым пропитали его одежду, от боли с корнями вырывал фессальские сосны и сбросил Лихаса с вершины Этны в Эвбейское море.
Иные же, более мирные духи, приютились в тихой долине и, под звуки многочисленных арф, пели ангельскими голосами о своих геройских подвигах и злополучном исходе, повергшем их в бездну. В заунывных песнях они жаловались на судьбу, допустившую, чтобы свободные духи были порабощены случаем или силой. Песни их были пристрастны, но так полны чудной гармонии (и может ли быть иначе, когда поют бессмертные духи), что Ад, стихая, с восторгом внимал дивным звукам.
Другие, в еще более сладкой беседе (как музыка пленяет чувства, так красноречие очаровывает душу), сидели в отдалении на склоне холма; они рассуждали о самых возвышенных предметах: о предвидении, всегда безошибочном, о воле – всегда свободной, судьбе – всегда непреложной; высокие думы их ищут разрешения непостижимых задач, теряясь в этом безысходном лабиринте. Потом они размышляют о добре и зле, о высшем блаженстве и конечной скорби, о страстях и бесчувствии, о славе и позоре, о всей этой суетной мудрости и философских заблуждениях. И, словно дивными чарами, заговаривают они на некоторое время свои страдания и тревоги; в сердцах их пробуждаются безумные надежды; или, словно тройным панцирем, вооружают их ожесточенные сердца упорным терпением.
Еще одни, составив большие отряды, отваживаются на смелое предприятие: отыскать, не найдется ли для них в этом ужасном мире более спокойного убежища. Они направляют свой полет в четыре различные стороны, вдоль берегов четырех адских рек, которые с шумом несут свои пагубные воды в огненное озеро, – вдоль реки смертельной ненависти, страшного Стикса; реки печали – глубокого, черного Ахерона; Коцита, в спокойных водах которого громко раздаются жалобные вопли, буйного Флегонта, с яростно клокочущими огненными волнами. Вдали от этих рек медленно катит, развертывая свой водяной лабиринт, безмолвная, спокойная Лета[59], река забвения. Кто выпьет ее воды, тот мгновенно забывает все: и свое прежнее состояние, и настоящее бытие, забывает все радости и печали, все наслаждения и страдания.
А далее, по ту сторону Леты, простирается ледяная страна, покрытая мраком, дикая; ее терзают вечные бури и вихри с градом, который, никогда не тая, громоздится в ужасные груды и кажется развалинами древнего здания; все кругом покрыто снегом и льдом; это ледяная бездна, столь же глубокая, как Сербонские болота[60] между Дамьетой и древней горой Кассием, где гибли некогда целые армии. Здесь холод так же жгуч, как огонь, и резкий воздух пронизывает ледяной дрожью и жжет в одно и то же время.
Туда, в определенное время, фурии с когтями гарпий[61] приносят всех осужденных; несчастные подвергаются жестоким мукам от быстрых переходов из одной ужасной крайности в другую. Со жгучего огненного ложа их бросают на груды льдин; живительная эфирная теплота в них застывает: долго лежат они так неподвижно, в неописуемых страданиях; когда же они совсем окостенеют от холода, их быстро ввергают опять в огонь. Взад и вперед переправляются они через Лету: это еще удваивает их мучения. Они изнемогают от тщетных усилий дотянуться до соблазнительной влаги: капля ее в один миг дала бы им сладкое забвение всех страданий. Они припадают к реке, вот они уж так близко к краю… но тут рука Судьбы останавливает их. Медуза[62], вооруженная всеми ужасами, порождением Горгон, сторожит ту волшебную реку; вода сама бежит от уст всякого живого существа, как некогда она бежала от уст Тантала[63].
Печальные Духи бродят так наудачу; растерянные, бледные и трепещущие от ужаса, с блуждающими глазами, они впервые постигают свою плачевную участь и не находят покоя. Много мрачных, пустынных долин проходят они, много печальных стран; через многие ледяные горы, чрез многие огненные вершины перешли они; через утесы, обрывы, озера, болота, топи, пропасти и сени смерти, через целый мир смерти, который Бог, в минуту проклятья, создал лишь для зла; мир, где все живое умирает, все мертвое живет, где извращенная природа производит одних чудовищ, громадных, невыразимо отвратительных, безобразных: они сильнее всех чудовищ, выдуманных в сказках, или созданных страхом – эти Горгоны, Гидры, эти ужасные Химеры[64].
Между тем, враг Бога и Человека, Сатана, воспламененный гордой мыслью, на быстрых крыльях направляет свой одинокий полет к вратам Ада. Порой он летит вправо, порой устремляется влево. То, спустившись вниз, он задевает крылом бездну, то вдруг взлетает до самого верха огненного свода. Так, издали, кажутся висящими в облаках корабли на море, когда ветер несет их от берегов Бенгалии или островов Терната и Тидора[65], откуда купцы привозят дорогие ароматы; они идут по водному торговому пути, через широкое Эфиопское море к Капу, и полярная звезда руководит ночью их плавание. Таким казался издали полет крылатого врага.
Но вот, в самой выси страшного свода показались, наконец, пределы Ада. Их охраняют трижды трехзатворные ворота: три затвора – медных, три – железных, три из адамантовых скал. Непроницаемы были эти врата; они, не сгорая, ограждены были пламенем. По обе стороны их сидело два грозных призрака. Один, от головы до пояса, казался женщиной очаровательной красоты; но остальное ее тело было отвратительно; оно извивалось в многочисленных чешуйчатых кольцах, широких, громадных, подобно змее с ее смертоносным жалом. На поясе ее держится свора всех адских псов, с широко разинутыми пастями Цербера[66]; они без умолку громко лают и производят оглушительный крик. Но если что-нибудь прервет их лай или испугает их, они вползают в утробу чудовища, и, невидимые, продолжают там выть и лаять. Не столь ненавистна была терзавшая мореходцев Сцилла[67], погруженная в море, что разделяет Калабрию от диких берегов Тринакрии[68]. Не так безобразна свита ведьмы, когда на таинственный зов, чуя запах младенческой крови, она ночью несется по воздуху на пляски к лапландским ведьмам, от чьих заклинаний гаснет на небе утомленная луна.
Другое существо, если можно назвать так нечто, не имевшее никакого образа, нечто невещественное, без форм, без членов или суставов, походило, скорее, на призрак, черный как Ночь, злобный как десять Фурий[69], ужасный как Ад; он потрясал страшным копьем. То, что казалось его головой, было увенчано как бы подобием царской короны.
Сатана уже приближается к нему; чудовище, с такой же быстротой, грозными шагами устремляется вперед; Ад дрожит под его стопой. Но неукротимый Враг с изумлением смотрит на видение, стараясь разгадать его – с изумлением только, не с ужасом; кроме Бога и Сына Божия он не чтит и не страшится ничего созданного. Он с презрением смотрит на чудовище, и, обращается к нему с такими словами:
«Откуда ты? Кто ты, проклятый призрак? Как осмеливаешься ты, ужасное, мрачное видение, безобразным своим челом заграждать мне путь к тем вратам? Я пройду через них, и знай, не у тебя стану просить позволения. Удались, или ты поплатишься за свое безумие, и на опыте узнаешь, исчадие Ада, что значит бороться с небесными Духами.»
На это чудовище, пылая злобой, отвечает ему: «Это ты, Ангел – изменник, ты, что первый нарушил на Небе мир и веру, невозмутимо хранившиеся до тех пор? Это твои гордые замыслы увлекли к восстанию треть небесных Ангелов; и за это преступление ты и твои сообщники, отвергнутые Богом, осуждены вечно влачить здесь дни в страданиях и муках? И ты, достояние Ада, причисляешь себя к лику небесных Ангелов! Ты осмеливаешься произносить надменные и дерзкие речи здесь, в моем царстве! Я царь здесь, и пусть от этого вдвое увеличится твоя ярость. Прочь отсюда, спеши назад к месту твоего наказания, вероломный беглец; трепещи, чтобы я скорпионовым бичом не ускорил твоего полета, или одним ударом этого копья не нанес тебе боли, еще неизведанной тобой, которая повергнет тебя в небывалый ужас!» – так говорило грозное чудовище, и при этих речах и угрозах стало еще в десять раз ужаснее и безобразнее.