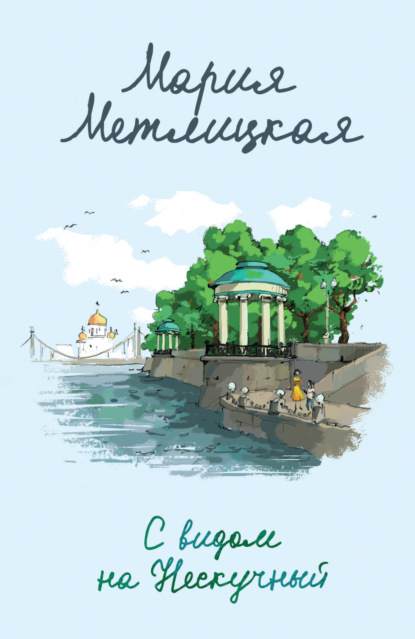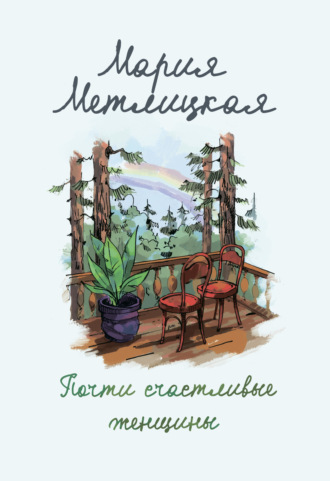
Полная версия
Почти счастливые женщины
Спустя год совестливая Анюта устроилась в детский садик музыкальным работником. Туда же устроила и Алечку – и сыты, и дочка под присмотром.
Хозяйство вели сообща. Да какое там хозяйство – две женщины и ребенок. Жили дружно, не ссорились и не цеплялись друг к другу. Через полтора года Аня успокоилась и поняла, что бывший муж и не думает их искать, наверняка давно забыл и устроил свою жизнь. Ну и бог ему судья.
Их тихая женская жизнь протекала спокойно и мирно.
Аля росла спокойным, уступчивым, беспроблемным и милым ребенком. Если бы ее спросили, кого она любит больше, свою тихую и печальную мать или большую и громогласную бабушку, она бы призадумалась. Нет, она очень любила обеих. Но с бабушкой было веселее, живее, с ней можно было играть, смеяться, пугаться страшных историй, нашептывать по вечерам сказки, петь смешные куплетики, учить наизусть стихи, печь на кухне оладьи, пышные и высокие, собирать с земли желуди и делать из них смешных человечков, шить куклам платья, вязать пинетки и кофточки, покупать потихоньку от мамы коричневые пачечки сладкого гематогена и кисленькие желтенькие – витаминки-драже. Еще можно было клянчить мороженое и трубочки с кремом, ходить в кино на детские сеансы, самые ранние, в девять утра, по воскресеньям, когда мама еще спала.
Бабушка – это вечный праздник и радость, шумные, звонкие поцелуи, запах леденцов, духов «Красная Москва» и папирос «Беломорканал». Бабушка – это смешные черные усики под верхней губой: «Ба, ты же не дедушка, почему у тебя усы?»
Бабушка – это сладкая пшенная каша с изюмом, маленькие сережки с красными камушками, влажная шея и нежные руки, самые нежные и родные, горячие: «Ба, подержи ручку на лобике! Головка болит».
А с мамой они гуляли в усадьбах любимого композитора. Больше всего любила Майданово, двухэтажный дом на высоком берегу реки Сестры. Бывали и во Фроловском, любовались бесконечными просторами, лесами, полями и речкой Жерновкой. Как интересно рассказывала мама о жизни и творчестве композиторов! Аля слушала ее, затаив дыхание. Увлеченная рассказом, мама розовела и оживлялась, становилась совсем молодой.
Анна Васильевна заболела, когда Аля училась в пятом классе. Стала еще грустнее, еще печальнее, еще тише. На работу она почти не ходила, сидела дома на вечных больничных или лежала в больнице. Домой приходила врачиха из поликлиники, тощая, темная, похожая на засохшую ветку. Длинными, сухими темными пальцами хмуро и нервно писала рецепты, бросая тяжелые взгляды на больную и ее родню, тоненькую перепуганную девочку с узкими косицами и большую толстенную усатую старуху в темном широком платье.
Врачиха все понимала. Жизнь молодой и печальной женщины подходила к концу. По слухам, бабка девочке не родная. Что будет с ребенком? Какая судьба ждет эту милую напуганную девочку? Надо непременно позвонить в детскую поликлинику своей коллеге-педиатру и выяснить, что да как. Возможно, есть другие родственники, поближе? Надо сделать все, чтобы этот ребенок не попал в детский дом – там она пропадет. Такие девочки, как эта, в таких местах не выживают.
Бедная Анюта болела неожиданно долго, хотя и анализы были ужасными, и прогнозы врачей не оставляли надежд, и кормили ее принудительно, а она все жила. Последний месяц она провела в больнице. Медсестры шепотом обсуждали участь несчастной, совсем молодой женщины, ее странную родню: огромную усатую тетушку с красными от непрекращающихся слез глазами, крепко держащую за тоненькую, словно прутик, ручку насмерть перепуганную, растерянную девочку. Девочку жаль было больше, чем мать.
Та уже пребывала между землей и небом, в зыбком, затуманенном, неизвестном мире, приходя в себя на пару минут, только когда девочка еле слышно шептала «мама».
Картина была невыносимой.
Медсестры тайком утирали слезы – какое несчастье!
Похороны Ани были печальными. Впрочем, процедура эта веселой не бывает, но здесь все выглядело совсем удручающе – дешевый гроб, оббитый малиновым ситцем, ужасное ноябрьское утро, темное, дождливое, мрачное. Размытая, утопающая в рыжей глине дорога на кладбище, рыдающая старуха, укутанная в черный платок и держащая за руку девочку, серую от страха и горя.
Из провожающих были две женщины, работницы почты: полудебильная уборщица Клава и почтальон Лена, грубая, хмурая, молчаливая, одинокая баба. Обе пришли по просьбе начальницы.
После кладбища поехали к Олимпиаде. Там и помянули несчастную, тихо и скромно, но как положено, селедкой с картошкой, винегретом и поминальными блинами с кутьей. Кутью принесла Клава.
После долгих уговоров Аля молча сжевала холодный блин и ушла в комнату. Не зажигая света и не раздеваясь, легла на кровать и закрыла глаза. Что теперь будет? Теперь она совершенно одна. Мамы нет. Есть бабушка, но она им не родная, и потому ее, скорее всего, заберут в детский дом, она уже взрослая и все понимает. К тому же она прекрасно слышит все разговоры. Вряд ли бабушке удастся ее «отстоять»: возраст не тот, здоровье подводит. Правда, Аля слышала, как бабушка Липа сказала врачихе, что будет биться до последнего. А та ответила, что шансов мало, даже почти нет. И еще что надо отыскать Алиного отца. Вот он-то точно имеет право на девочку.
Отца. Аля его совсем не помнила. Мама от него сбежала, когда она была грудным младенцем. Отец много пил и распускал руки. Мама говорила, что она спасалась и спасала дочь. Оставаться в том доме было нельзя. Сбежала в никуда, «наобум Лазаря», как она говорила.
Но теперь мамы нет, бабушка старенькая и больная, ходит плохо, дышит тяжело, жалуется на сердце и на все остальное. И бабушка она не родная. По всему получается, что дорога у Али одна – в приют.
Было страшно. Ах как было страшно: больше нет мамы, а скоро не будет и бабушки. Страшно было уходить из родного дома, где она выросла. Страшно было представить другую, незнакомую жизнь. Но было понятно одно – та, другая, новая жизнь уж точно не будет лучше прежней, старой.
Скорее всего, она окажется ужасно тяжелой, страшной, как и само слово «приют».
Через пару дней пришли какие-то люди. Они внимательно рассматривали девочку и задавали чудны́е и смешные вопросы: не голодает ли она и что, например, она ела сегодня на завтрак и чем ужинала вчера, справляется ли она с уроками и кто их проверяет, кто стирает ей платьица, трусики и колготки? Вопросы были странные, девочка терялась и пугалась этих дотошных чужих людей, бросала взгляды на растерянную бабушку, но та, кажется, боялась не меньше ее.
– Уроки, – тихо отвечала Аля, – мне проверять не надо. Я учусь хорошо. Белье, – произнести при незнакомых людях слово «трусики» ей было неловко, – я стираю сама. Мама меня приучила. А на завтрак мы ели овсяную кашу. И бутерброды с сыром.
Дотошные тетки переглянулись и ушли. Все оставалось по-прежнему: Аля жила с бабушкой, ходила в школу, делала уроки и по ночам плакала по маме.
В зимние каникулы случилось неожиданное – снова пришли незнакомые люди и, попросив девочку выйти из комнаты, долго говорили о чем-то с бабушкой. Девочка чувствовала: происходит что-то неладное, страшное, непонятное, то, что непременно повлечет за собой перемены. И эти перемены точно будут ужасными.
Дрожа как осиновый лист, она сидела в своей комнатке, смиренно положив руки на колени: она давно со всем смирилась и любые неприятности, любые новости воспримет как должное. Да и кто спросит ее мнения, кому оно интересно?
После уходакомиссии – так назвала теток баба Липа – ее опять не забрали. А вот бабушка долго плакала. Аля вопросов не задавала. Но и в январе ее не забрали, а после Нового года, грустного и очень тихого, баба Липа слегла с давлением. Три раза за сутки приезжала неотложка, каждый день приходил врач из поликлиники, дом пропах лекарствами и болезнью. Баба Липа плакала и обещала девочке, что никому ее не отдаст, никому и никогда, даже если придется лечь на рельсы. При чем тут рельсы, Аля не поняла, но переспрашивать не решилась. Каждый вечер приходила почтальонша Лена, ни слова не говоря, выносила за бабушкой ведро, перестилала ее постель, подметала дом и вставала к плите. Готовила Лена невкусно, просто, по-деревенски, по-холостяцки, по ее же словам. Аля, привыкшая к бабушкиным оладьям и сырникам, к вкусным супам и тефтелям, с трудом проглатывала подгоревшую гречневую кашу и сыроватую, плохо прожаренную картошку.
После зимних каникул, в первый учебный день, Алю Добрынину вызвали к директору. В кабинете сидела нарядная дама в красивом ярко-фиолетовом костюме и с пышной высокой прической-башней. На очень ухоженных, холеных, с красивым ярким маникюром руках важной дамы сверкали золотые кольца с цветными камнями. Сильно пахло духами.
Директриса, скромная женщина в строгом черном костюме, страдающая мигренями и не признающая косметики и украшательств, страдальчески морщила брови и кривила рот. По всему было видно, что ее вечная мука, головная боль, сегодня опять была рядом.
Испуганной девочке предложили присесть, и важная дама с участливым вздохом принялась задавать ей уже знакомые дурацкие и странные вопросы. Все повторялось сначала.
«Как тебе живется с Олимпиадой Петровной? Кто готовит еду? Кто стирает?» И так далее.
Аля, опустив глаза, отвечала тихо и ровно, заученно и монотонно.
Девочка видела, как по-прежнему страдальчески морщится директриса, и уловила в ее глазах сочувствие и даже жалость. Она уговаривала себя не заплакать, потому что плакать передфиолетовой ей не хотелось. Та наклонилась к ней и, обдавая ее горячим и сладким дыханием, надев на гладкое и безразличное лицо маску сочувствия, с придыханием сказала:
– Милая Алевтиночка! Мне очень жаль, но складывается все не лучшим образом. Поверь, мы очень хотели тебе помочь! Очень! – Она кинула взгляд на молчавшую директрису, ожидая ее поддержки. Та молчала, и тетка, недовольно нахмурив брови, сладко улыбаясь, продолжила: – Дело в том, что мы искали твою московскую родню. Твоего папу и, возможно, других родственников. Но наши поиски не увенчались успехом, увы. Твой отец, – снова короткий, но выразительный взгляд на директрису, – твой отец… Словом, его больше нет. Он умер. Точнее, погиб.
Директриса нахмурилась и кашлянула, фиолетовая запнулась, но тут же вновь заговорила:
– Но не все так уж плохо! У тебя в Москве живет бабушка. Женщина она пожилая, но полная сил. Правда, – скорбный взгляд, – взять тебя к себе, Аля, она еще не готова.
Аля молча смотрела в окно. А фиолетовая все ворковала:
– Но ты не волнуйся! Мы ведем с ней беседы, уговариваем ее, убеждаем, что ты хорошая и спокойная девочка, умница и отличница. И мне кажется, что она согласится. А пока, Алечка, тебе, милая, придется пожить в детском учреждении.
– Зачем ее уговаривать? – не поднимая глаз и теребя край школьного фартука, еле слышно спросила девочка. – Зачем ее убеждать? У меня есть бабушка, с которой я живу всю свою жизнь. Я ее люблю, и она любит меня. И ее, мою бабушку, не надо уговаривать оставить меня.
– Все так! – оживилась фиолетовая. – Только вот бабушка твоя, как ты ее называешь, вовсе тебе и не бабушка. Да и тебе самой это известно. По документам она вообще тебе никто, понимаешь? И усыновление здесь невозможно. Никто ей этого не разрешит! К тому же человек она пожилой и очень больной.
– А та моя бабушка? – так же тихо спросила девочка. – Она что, молодая?
Дама недовольно скривилась и заерзала на стуле.
– Нет, не молодая. Она тоже на пенсии. Но она твоя бабушка, твоя родная бабушка. И она… Она имеет право. К тому же женщина она обеспеченная!
– Никакая мне она не родная, – неожиданно с вызовом ответила девочка. – И упрашивать ее не надо. Я все равно к ней не поеду.
Молчавшая, словно застывшая, директриса дернулась и, уронив карандаш, испуганно глянула на даму с прической.
Та была крайне недовольна всем происходящим и еле держала себя в руках. Она театрально развела руками, всем своим видом показывая, что сделала все, что можно, и, разведя руками, произнесла:
– Тогда одна дорога, моя дорогая, в детский дом!
Побелев от страха и ужаса, заполнивших ее маленькое детское сердце, Аля вздрогнула, вскинула голову и молча кивнула.
Не прощаясь, на ватных ногах она еле-еле вышла из кабинета, думая о том, что ее сильно, очень сильно тошнит.
Дошла до туалета, и там ее вырвало. Но легче, кажется, не стало.
В тот день ее отпустили домой. Шла она медленно, поддевая носками ботинок свежий снежок. Почему не торопилась? А потому, что было страшно рассказать о сегодняшней встрече бабушке. Рассказать о том, что скоро они разлучатся. Вернее, их разлучат. И никто, ни один человек на свете им не поможет, никто за них не заступится – нет у них заступников. Мамы нет, и скоро не будет и бабушки.
Еле сдерживая рыдания, Аля добежала до дома.
Дверь была не заперта. Девочка вбежала в дом и громко крикнула:
– Ба!
Ей никто не ответил. В бабушкиной комнате было пусто, растерзанная постель, разбросанные вещи, в блюдце осколки от ампул, ведро, куда ходила баба Липа, стояло полным. Пахло мочой, спиртом, лекарствами и страхом.
Впервые Аля поняла, что одна на всем белом свете. И никто, никто ей не может помочь!
От горя, отчаяния и животного страха она разрыдалась.
Но через пару минут встрепенулась, подскочила, схватила пальтишко и шапку и бросилась на улицу.
Наверняка бабушку увезли в больницу! Конечно, в больницу, куда же еще? Сейчас она туда добежит, найдет бабу Липу и обнимет ее! И они обязательно что-нибудь да придумают! Обязательно придумают! И не расстанутся. Никто не сможет их разлучить! А может, им убежать? Собрать самое необходимое, какие-то вещи, бабушкины лекарства, Алину любимую куклу Марину, мамины фотографии и убежать? Страна большая, где-нибудь да пристроятся! И кто-то им непременно поможет. На свете так много добрых людей – так говорила ей мамочка. Найдется, кто их пожалеет, заберет к себе. Как когда-то их с мамой пожалела и забрала к себе бабушка Липа.
Аля обрадовалась такому простому решению и припустилась бегом. Бежала так резво, что стало жарко, и она сорвала с головы шапку. Конечно, есть выход! И она его нашла! Ведь не бывает, чтобы не было выхода! Мамочка всегда говорила: «Даже в самые страшные минуты отчаяния нельзя падать духом! Я убежала с тобой, совсем крошкой, без вещей и денег. А видишь, как все обернулось? Как мы все счастливы? А если бы испугалась? Наверное, уже давно бы лежала в могиле. А что бы было с тобой?»
Мама не испугалась, и она, Аля, не испугается. Мамочка отвечала за нее, а она отвечает за бабушку. Потому что уже взрослая. Конечно, взрослая. Одиннадцать лет – вполне солидный возраст.
Коридор второго этажа больницы был темным, узким и пустым. В самом конце его стоял стол, за которым сидела медсестра и увлеченно что-то читала, подчеркивая в пухлой книге, видимо, учебнике, слова и целые абзацы. С сильно колотящимся сердцем Аля подошла к столу, постояла, пару раз кашлянула в надежде, что та обратит на нее внимание.
Наконец сестра оторвалась от книги и хмуро уставилась на незваную гостью.
– Тебе чего? И вообще – кто тебя пропустил?
Перепуганная девочка забормотала, что пришла к бабушке, Олимпиаде Петровне:
– Она тут, у вас! Пришла, потому… потому что больше у меня никого нет. Мама умерла, и мы с бабушкой остались вдвоем. Бабушка заболела, а меня хотят забрать в детский дом. А я туда не хочу. Я домой хочу, на Лесную. Там у нас дом и маленький садик. Там у нас хорошо, честное слово! И я пришла сюда за бабушкой. Заберу ее домой, и мы снова будем жить вместе. Буду ухаживать за бабушкой, я умею! У меня мама долго болела, я всему научилась – и судно выносить, и постель менять. И с ложки кормить, и поить из поильника! У нас и поильник есть, еще мамочкин, с носиком такой, и с надписью «Привет из Кисловодска». Соседка привезла, тетя Надя. – Аля выдохлась и замолчала.
Медсестра разглядывала ее и ничего не говорила.
– Вы меня слышите? – с отчаянием спросила Аля.
Медсестра одернула халат, надела лежавший на столе мятый колпак.
– Да слышу я тебя, не глухая! Только ты что думаешь, я здесь главная? Эх, малая! Я сама здесь на птичьих правах. Да и кто меня слушает? В детский дом, говоришь? Да уж… Хреново. Я сама детдомовская, хлебнула по полной. Правда, у меня, в отличие от тебя, и мамка была, и папка. Только это ничего не меняло. Пили они. Напивались, а потом зверьми становились. Ну и разобрали нас, детей. Сестру с братом усыновили, а мне не повезло, я в приюте осталась. Не пришлась никому. – Она грустно и недобро скривила рот. – Да и ладно, что уж теперь! Видишь – выросла, профессию получила. И ничего, не пропала, не сдохла. Но ты, малая, в детский дом не спеши, слышишь? Бабка твоя выздоровеет или нет – все равно не спеши! Лучше у какой-никакой родни, чем в приюте, ты меня поняла?
Аля кивнула.
– А к бабушке можно?
Медсестра нахмурилась.
– Сегодня посещений нет, у нас с этим строго. Завтра приходи, слышишь? А сейчас домой иди. И бабушку беспокоить не надо, раз только сегодня ее к нам привезли. Усекла, малая? Иди, девочка. У тебя хоть дом есть, есть куда идти. А у меня и этого не было.
Аля развернулась и побрела по коридору.
– Эй! – окликнула ее медсестра. – Ты небось голодная? Пошли чай пить. У меня шоколадка есть, бутерброды с сыром. Пошли, не дрейфь! А то что ты сейчас в пустой дом!
На больничной кухне – медсестра Леля называла ее буфетной – пахло хозяйственным мылом, хлоркой и подгоревшей кашей. На полках стояла посуда – серая, грубая, с неровными краями. На потолке нестерпимым голубоватым резким светом горели, жужжа, лампы дневного света.
Леля открыла холодильник, достала сыр и масло, поставила на плиту огромный алюминиевый чайник и вытащила из шкафа целый батон. Ловко нарезав бутерброды, она налила чай и поломала шоколадку «Аленка».
Аля почувствовала, как сильно проголодалась, – еще бы, ела она сегодня только с утра, да и то не еда – холодный сырник в школьной столовке и ореховый коржик.
Чай был крепкий и сладкий, хлеб мягкий, слой масла толстенный, так же, как и куски сыра.
Наевшись, Аля почувствовала, как нестерпимо хочется спать. Голова клонилась к столу, глаза закрывались. А Леля все болтала. Рассказывала про детский дом, про драки и тычки от воспитателей, про полуголодное существование, про то, как завхоз зажимала конфеты, печенье и вафли к праздникам, как воровали повара, унося домой огромные сумки, как повезло ее сестре и брату, попавшим в семьи и имевшим нормальное, сытое детство.
Расспрашивала Алю – где отец и семья отца, от чего умерла мама, узнала, что бабушка им не родная.
Посочувствовала:
– Ну вряд ли бабке Олимпиаде тебя отдадут, на это ты не рассчитывай. По документам ты ей никто, и им наплевать, что она тебе бабушка. А про московскую бабку ты зря! Зря к ней не хочешь! Может, вполне нормальная бабка, полюбит тебя. Баловать будет. Говоришь, она обеспеченная? Вот и мотай туда, к той родне! Москва все-таки, столица. Квартира своя. Езжай и не думай, слышишь, малая? Ты меня, опытного человека, послушай. Лучше любая бабка, чем детский дом! Езжай и не сомневайся! И черт с ней, с обидой. Нам с тобой не до гордости. Делай так, как удобно! Ну, усекла?
Борясь с наваливающимся сном, Аля послушно кивала и думала: «Ни в какую Москву я не поеду. И ни к какой бабушке тоже. И квартира ее мне не нужна, и богатства. И наплевать, что она мне родная по крови. Какая она мне родная? Баба Липа – вот кто мне родня, и другой родни мне не надо.
Завтра с утра увижу ее, расскажу ей про свой план, и мы уедем! Тю-тю город Клин и Лесная улица. Страна большая, нам места хватит.
У бабушки есть пенсия, у меня тоже, за маму. Как-нибудь проживем. А потом я пойду работать. Подрабатывать. И прокормлю и бабушку, и себя. Нам много не надо».
Леля, видя, что девочка засыпает, потрепала ее по плечу.
– Иди домой, малая! Оставить здесь тебя не могу. Может проверка прийти – не дай бог. Сразу с работы попрут, здесь с этим строго. А мне только комнату в общежитии дали, знаешь, как я за нее держусь? Иди, тебе же тут близко?
Разморенная девочка натянула капор и застегнула пальто.
– Ты уж прости меня, – извинялась Леля, – ну правда не могу, честно! Добежишь, а?
На улице было сыро и ветрено. Сунув руки в карманы, Аля припустилась к дому. Добежала быстро, минут за десять. Увидела темные окна и расплакалась.
Зашла в дом. Он остыл, и было зябко. Девочка улеглась в постель, накрывшись двумя одеялами. Второе было бабушкино и пахло бабушкой – родной и бесконечно любимый, знакомый запах. Запах детства, которое в эти дни у нее, кажется, кончилось…
Утром побежала в больницу: главное – увидеть бабушку и все ей рассказать. Наверняка настроение у нее отвратительное – болеет и переживает за внучку. На часах было восемь утра. Больница снова пахнула на нее запахами хлорки, лекарств, мочи и столовской еды. По коридорам сновали быстрые медсестры и важные врачи со стетоскопами на груди. Санитарка гремела ведром. Буфетчица толкала тележку с котлом, из котла вырывался пар и запах молочной вермишели. Из огромного чайника пахло какао и пенками.
На посту вчерашней Лели не было – вместо нее сидела и что-то писала полная женщина средних лет в высоком, сильно накрахмаленном, в синеву, колпаке.
Увидев девочку, нахмурилась:
– Тебе чего? Посещения с двенадцати! Давай отсюда!
Аля упрямо и твердо, безо всяких сомнений, сказала:
– Я к бабушке. К бабе Липе. К Олимпиаде Петровне. Мне необходимо ее увидеть. Прямо сейчас.
Удивившись ее напору, медсестра посмотрела в журнал, нахмурилась, покраснела и подняла глаза:
– Девочка, – тихо сказала она, – иди, милая, домой. К родителям. Пусть они придут, слышишь? А ты иди. Иди, милая. Здесь взрослым надо, поняла?
Аля ничего не поняла. Стояла молча, как истукан. Сил пошевелиться не было. И голос, казалось, пропал. В горле пересохло – не проглотить. Да и нечего было глотать – слюна тоже исчезла.
Спустя минуту она все поняла. Больше нет бабы Липы…
Хоронили Олимпиаду Петровну через три дня. Похоронами занимались соседи и почтальонша Лена. Под матрасом нашли деньги – похоронные, как сказала Лена. Тонкая пачечка, завернутая в газету и перетянутая черной аптечной резинкой. Там же, под матрасом, лежали и бабушкины богатства – золотые сережки с красными камушками, часики на браслетике и цепочка с крестиком.
– Твое, – кивнула Лена. – Забирай. Память о бабке.
– Мне не надо. Себе возьмите. А бабушку я и так не забуду.
Удивленно вскинув брови, Лена сказала:
– Ну тогда по-честному: мне сережки, тебе крестик. Ты, чай, крещеная?
– Кажется, нет – ответила Аля. – Я не знаю.
– Все равно забирай. Пригодится.
На кладбище Аля не плакала. Не было слез. Стояла как каменная, застывшая. Громче всех рыдала Клава, страшно, с подвываниями, как волчица. Аля морщилась, словно от зубной боли, – вряд ли дебильная женщина понимает, что произошло. Впрочем, какая разница. Похоронили бабушку в одной могиле с мамой.
И все повторилось – несколько человек, включая соседей, почтальонша Лена и больная уборщица Клава пришли к ним домой на поминки. На кухне стояли миски с винегретом, картошкой и блинами. Соседка Михална принесла селедку и миску с холодцом – хорошо, что сварила. Как чуяла!
После ее слов Аля впервые заплакала.
После поминок Лена осталась с Алей:
– Пока с тобой разберутся, побуду здесь. А то ведь в приют увезут.
Рано утром Лена, надев ватник и резиновые сапоги и подхватив черную, потертую, огромную сумку, уходила на почту. Аля укутывалась в одеяло и отворачивалась к стене.
В школу она не ходила. После занятий приходила классная, уговаривала пойти в школу, говорила, что так будет легче, да и вообще надо учиться и жить дальше, жизнь, она ведь продолжается.
Аля не слушала, затыкала уши, отворачивалась и мертвым голосом, монотонно, обещала прийти завтра, точно зная, что не придет.
Через два дня явились женщины из опеки, уже знакомая Але инспекторша с башней на голове и в фиолетовом костюме и еще одна, молчаливая, хмурая, болезненного вида, с очень бледным, словно сырое тесто, рыхлым, отечным лицом.
Фиолетовая дама радостно доложила, что московская бабушка отозвалась.
– Ты даже не понимаешь, Аля, какое это счастье! Бабушка обещала приехать сюда через пару дней. Поедешь в Москву, счастливица! Эх, меня бы кто в столицу забрал! – пошутила она, но, поймав взгляд девочки, быстро умолкла. – А пока, Алечка, детка, придется в приют!
Весь разговор Лена стояла, молча прислонившись спиной к печке. На фиолетовую смотрела с ненавистью. Потом процедила:
– Пока я здесь с ней поживу. Здесь, дома. – И вышла в сени.
Фиолетовая, кажется, растерялась. Но странное дело – не возразила.
Московская бабушка действительно появилась через три дня. Рядом с ней радостно щебетала разрумянившаяся фиолетовая инспекторша.