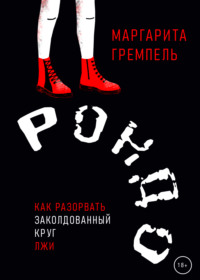Полная версия
Зинаида. Роман
А сейчас наступило время учиться: ему уже, как мы говорили, исполнилось семь лет. Он погрузился в сложный мир знаний и учёбы, что называется, с головой. Научившись читать, он много отдавал этому времени, читал запоем больше художественную литературу, которая имелась в богатой библиотеке этого детского дома. Стал хорошо писать диктанты, изложения, сочинения. Подошёл к сочинительству собственных стихов. При этом почерк узаконил себе сам: буквы были у него с завитушками, строчка ровная, как натянутая на нить или струну. Каллиграфический. Это поражало, много видевших на своём веку, учителей, которые учили уже не первого такого Ивана, бежавшего от голода и сиротской жизни и прибившегося к ним. Он научился играть в шахматы, обнаружил в себе талант художника, мог перерисовать любую картину с большой точностью и мастерством, чем нередко удивлял окружающих – детдомовских мальчишек и девчонок, а вместе с ними и весь персонал.
Моисей Менделеевич Болотин – особая личность и целая книга из жизни беглого сироты Ивана. Это был замечательный, великодушный, добрый человек, поражавший своими знаниями в математике и физике, а больше – любовью к детям. В неграмотном и простоватом Иване он разглядел незаурядного мальчугана с математическими наклонностями, и стал учить его этой науке и её премудростям, и замечал, как тот рос на глазах и с большой лёгкостью решал разные задачи и примеры.
Моисей Менделеевич, пожилой седовласый еврей, имел большую семью: замечательную покладистую жену и шестерых детей, не очень взрослых, самой старшей дочери было семнадцать лет. Иван как-то просто сошёлся со всеми членами семьи своего учителя и стал больше всех отмечать и заглядываться на красавицу Нелю. Само собой случилось, что он часто стал бывать в их доме. Хотя, исходя из всех принципов и канонов того времени, по правилам самого детского дома, это не приветствовалось и даже негласно, по неписаным законам было принято детишек из детского дома к себе не приглашать, не брать, не оставлять ночевать, а тем более – жить, усыновлять и удочерять. Моисей Менделееевич и так уже поменял несколько детдомов, где его за это морально били и наказывали – предложением уволиться.
Много детишек пройдёт через его руки, и он часто станет повторять:
– Я не из каждого сделаю математика, но я хочу, чтобы все вы стали честными людьми!
И он не ошибся почти ни в одном из них. Многие из его учеников попадут на фронт, станут солдатами и генералами, героями Советского Союза и часто, погибая и отдавая свою жизнь за Родину, будут вспоминать именно его, этого доброго и честного учителя математики, и с его именем на устах при последнем вздохе расставаться с жизнью за светлое будущее. Он проживёт все годы войны, продолжая учить детишек, и не попадёт на фронт из-за тяжёлой болезни – сахарного диабета, но потом у него появится новое выражение: «Как много я сделал для них, и как много все они вместе, кого я учил, сделали для России!»
Иван как-то осмелился, переступил через детский стыд и спросил учителя, пьёт ли их народ водку. Моисей Менделеевич покачал головой и ответил очень тихо и грустно, что пока у них нет родины, еврейский народ не должен пить. Тогда они – ученик и его учитель – ещё не знали, что государство Израиль появится на карте мира 14 мая 1948 года. Моисей Менделеевич не доживёт до этого светлого дня.
В тридцать седьмом году репрессии коснутся и Моисея Менделеевича, его станут обвинять в скабрёзных деяниях по ложному доносу. По надуманному пасквилю и инсинуациям коллег из детдома органы будут дёргать и Ивана. Он станет главной козырной картой или разменной монетой в обвинениях учителя, его будут спрашивать и выпытывать, для чего он так часто приходил в дом Болотиных, какие отношения были у них с Моисеем Менделеевичем, намекая и заставляя подписывать протокол о «неоднозначных отношениях» взрослых к детям. Тогда он впервые услышал слово «педофилия». Это были люди, не имевшие стыда, коверкавшие жизнь пожилого человека и вызывающие страшную неприязнь у молодого, взрослеющего, ещё не знавшего страха лагерей, бескомпромиссного Ивана.
Но дело вокруг Моисея Менделеевича как неожиданно разгорелось, так же неожиданно и без объяснения причин быстро затухло, а имя главного доносчика стало известно всем. Им был хромой Степан. Жил он неподалёку от детского дома, водил гусей, а бедные, изголодавшиеся детдомовские дети у него их воровали, потом жарили или варили рядом, в лесной посадке. Степан знал об этом, он ходил в лесопосадку и собирал выброшенные гусиные перья, приговаривая, что сгодятся на перины и подушки.
Богатым он не был, и винить его только за то, что у него были гуси, конечно, глупо. Но зря тот решил так отомстить детскому дому и его воспитателям и, как часто это бывает, выбрал самого безобидного, беспомощного и даже слабого по характеру – несчастного учителя. А главного подстрекателя из детдома, из воспитателей, который науськивал Степана, так и не узнали. Доброй души человек, Моисей Менделеевич испытывал огромное чувство любви ко всем людям и ко всему человечеству. Иван ему даже поклялся, что если его сошлют на Колыму, он тоже сбежит из детдома и пойдёт вместе с ним, поселится где-нибудь рядом с тюрьмой или зоной – он плохо понимал тогда разницу – и станет помогать Моисею Менделеевичу – выжить, ведь выжил же на каторге его любимый писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Моисей Менделеевич, конечно, верил Ивану и знал: если тот задумает что-то, то обязательно сделает, поэтому говорил:
– Ты учись, становись большим человеком и измени жизнь на всей планете!
Всё утихло и улеглось, но имя главного обидчика, которое теперь узнал Иван, который покушался на свободу его учителя, он запомнит и затаится, как барс перед прыжком. И вдруг именно в то время он сбегает из детского дома, напугав всех, в том числе и Моисея Менделеевича. Тот подумал о самых страшных событиях, если всё это связано с обидой на хромого Степана.
Через две недели он нашёлся, точнее, его нашли, а если быть совсем точным, его привезла милиция в детский дом пьяным, в бесчувственном состоянии. В своей прошлой, сиротской бродяжнической и беспризорной жизни он научился многим плохим привычкам: курить, пить брагу или самогон, воровать всё то, что плохо лежит, но чаще всего он воровал продукты и одежду, если вырастал из старых курток и свитеров. Попав в последний детдом, где его учителем и наставником стал Моисей Менделеевич, Иван перестал курить и пить. А это были страшные, как бомба, папиросы «Казбек» и тем более придуманный людьми по сорок, а то и по пятьдесят пять градусов, а когда и больше, горевший синим пламенем от одной спички, как бензин, «народный напиток» – самогон, который за весь XX век сожжёт много душ и тел у русского народа.
От воровской жизни он тоже отошёл, гусей у хромого Степана не воровал. Но хорошо знал тех, кто это делал, и сочувствовал им, потому, что это были его друзья по несчастью и ещё потому, что жизнь во всех детских домах, в которые попадали они, не была сладкой, а сказать правду, не была сытной: кормили детишек плохо – время у страны было тяжёлое. Но Ивана в этом детском доме любили за разные его таланты: портрет он мог нарисовать любому, а на празднике прочитал собственные стихи, посвящённые учительнице по пению, так что она плакала, и плакал весь зал:
Папа наш живёт с другою тётей,Может быть, хорошей и красивой,Но зачем вы, мамы, детям врёте,Раньше ведь была ты с ним счастливой.Не приходит он за нами в школуИ за двойки больше не ругает,А ещё сказали бы вы, к слову,Что он деньги почтой присылает…Поэтому Ивана подкармливали все, давали и позволяли поесть прямо на кухне, больше, чем другим, и он не тушевался, вспоминал со слезами лишь сестру, а о других заставлял себя не думать – беспризорная жизнь учила выживать. Товарищей своих, воровавших гусей у хромого Степана, он осуждал, но была у него и своя правда – он никого не выдал, когда органы допрашивали его и пугали тюрьмой.
От последнего запоя он отходил очень тяжело, болел, его тошнило и рвало, поварихи Клава и Степанида отпаивали его бульоном и рассолом, он пил всё это и не глядел никому в глаза, то ли от стыда, то ли от последних событий, которые свалились на его голову и в детскую неокрепшую душу.
Бегал он в свою деревню, откуда был родом. Хотел разыскать могилу матери и не нашёл. Точнее, могилку или место захоронения вроде нашёл, но не было на этом месте даже креста, никакой таблички или других обозначений, по которым можно было бы сказать, что здесь лежит и покоится его родная мать и как её зовут. Имя он так и не смог вспомнить за это время. По словам других людей, он узнал, что его отец вместе с новой женой и сестрой Ивана давно выехали из деревни, так как его затаскала милиция из-за пропавшего сына, подозревая, что старый Карабас-Барабас мог от него избавиться и даже убить. Спросить этих же людей про свою мать, как её звали, у Ивана не повернулся язык от стыда, обиды и мучительного горя, которые не давали ему покоя уже много лет. Был бы крест с надписью, с табличкой, что были почти на всех могилах, он бы и так смог прочитать, ведь стал уже грамотным. Иван выругался в сердцах, назвав своего отца собакой, и после этого бродяжничал по деревне и много пил, а жители жалели его и говорили с сочувствием:
– Видно, в отца пошёл, у них это наследственное, родовое.
А про мать как-то не вспоминали, будто она и не жила вовсе, вроде не своя, не деревенская, пришлая и чужая для всех. Лишь один раз Порфирий, уже дряхлый и древний старик, как-то, причитая, сказал:
– Не дожила цыганочка до такого позора. Да и как тут доживёшь от кулака зверя Акима. Упёр он её молодую из табора, лишил чести и свободы, без чего она жить не смогла.
А потом Порфирий сдал пьяного Ивана, которого поил и сам, в надёжные руки правоохранительных органов. Может, поэтому Иван не спросил Порфирия, как звали его мать-цыганку: потому что тот оказался мелким, гадливым и пакостливым мужичонкой.
Моисей Менделеевич дождался, чтобы сказать Ивану что-то важное, когда Иван пришёл в себя, но говорить ему в укор ничего не стал – жалел и как-то по-мужски плакал, тем более что Иван после разборок в органах, когда Моисея Менделеевича хотели посадить, больше к ним домой не ходил, опасаясь за судьбу учителя. Тут Иван сам заговорил с ним и рассказал ему не о матери, а о могиле брата отца и что фамилия у Ивана настоящая Шабашов, а не Шабалов, оттого что он, мол, торговал шоболами на рынке. Моисей Менделеевич рассмеялся по-доброму и сказал:
– Фамилию тебе такую дали не поэтому, а сделали запрос в другой детдом. Туда ты попал первый раз в пять лет, тогда ещё маленький был, плохо говоривший, ты повторял одно и тоже: «Сабалов», все и подумали, что ты, скорее всего, Шабалов, поэтому так и записали и передали эту фамилию в наш детский дом, где ты и живёшь сейчас.
Но Иван просил никому не говорить про его настоящую фамилию и родовую деревню, чтобы отец, к которому он возвращаться не хотел, не смог его найти. Через некоторое время Моисей Менделеевич всё-таки не выдержал и сказал Ивану одну важную, по его мнению, мысль о запоях и потом к этому разговору больше никогда не возвращался.
– Ваня, – приглушённым голосом обратился Моисей Менделеевич, – много хороших людей я встречал на своём пути, многие из них могли бы стать большими и яркими личностями, но их не стало, даже тех, кого я учил в стенах этого и других детдомов, потому что они взяли в руки стакан с водкой. Подумай об этом и запомни, что никто и никогда ещё не сумел победить водку, никто и никогда не сумел выпить её всю!
После этого разговора они отдалились друг от друга, и что произошло в душе Ивана, Моисей Менделеевич понять не смог. Иван потихоньку покуривал, пить вроде бы не пил, или никто этого не замечал. Моисея Менделеевича продолжал уважать, но учиться стал хуже, и, может, не то что хуже, а без особого прежнего рвения и желания, давалось ему и так всё легко. «А что ещё большего нужно мне?», – думал он…
Иван вырос, повзрослел, стал бриться, как серьёзный мужчина, по-настоящему.
Растительность на лице у него была густая и чёрная, поэтому уже в 15 лет бриться приходилось подолгу и тщательно, и если он выбривался дочиста, то щёки и подбородок были с синеватым оттенком. Лицо у него было смуглое, как у цыгана, и он теперь знал почему. Плотный и коренастый, с зачёсанными назад чёрными прямыми волосами, он выглядел старше своих лет и нравился взрослым девчонкам, молодым и даже зрелым женщинам. И вот тогда, в начале злополучного лета, дерзкий и непослушный, неуёмный, но умный и хитрый Иван сжёг дотла всё хозяйство хромого Степана. Так он решил отдать должное Моисею Менделеевичу, отомстив Степану за его донос, в котором тот обвинил учителя и ученика в порочных связях. Хотя ходили слухи, что это было с подачи коллег. Степан не мог знать, причастен ли был Иван к краже гусей, но, безусловно, он его подозревал и за это ненавидел, усматривая в нём, в этом цыганёнке, лидера, оттого что тот выделялся умом и хитростью среди всех воспитанников детдома.
Ивана заподозрили в поджоге и не собирались гладить по головке с зализанными набриолиненными волосами; возможно, его ждала тюрьма, а скорее – колония для несовершеннолетних преступников, непристойная жизнь урки, а с этим тёмное и непредсказуемое будущее.
Зинаида восприняла его воспоминания испуганно и насторожилась, ожидая, что дальше пойдёт рассказ о тюрьме или колонии. Иван сам впервые признался только ей о хромом Степане, когда они встретились и расписались, став мужем и женой. Ему было 33 года, и он никогда и никому об этом не признавался и старался не вспоминать. Он всё тогда сделал в одиночку и тайно, и доказательств его вины не было как тогда, так и сейчас. Что его подвигло в этот раз на откровение, объяснить он не мог, просто нахлынуло что-то. Такое желание обычно возникает в поезде – рассказать случайному попутчику ужасную историю из своей жизни, потому что знаешь, что с ним никогда уже не встретишься. Но не о признании вины в преступлении говорят собеседники, не обнародуют доказательства и улики, а подают это с другой стороны, как будто переживая и сожалея о содеянном, надеясь услышать от незнакомца скорее слова оправданий для себя, чем упрёков.
В дальнейшем он узнает, что хромой Степан во время войны помогал партизанскому подполью, был разоблачён немцами и они повесили его на площади перед тем самым детдомом, который вырастил и воспитал неугомонного Ивана.
Степан на допросах, где его жестоко избивали, никого не выдал, молчал, сплёвывая кровь вместе с зубами.
Если бы Иван в то время, когда поджигал дом Степана, мог только знать, какой Степан на самом деле, он бы этого не сделал. Или сам бы ушёл в колонию для малолетних преступников, или искал бы и нашёл того главного Иуду из преподавателей детдома, кто использовал Степана в своих подлых и гнусных целях. Но в их жизнь ворвалась Великая Отечественная война. Уже грамотный и начитанный, Иван знал, что началась Вторая мировая война. И он снова побежал из детского дома, но теперь чётко понимая, куда и зачем он бежит: он бежал на фронт. Детдомовские мальчишки многие бежали. Говорили, что на фронте кормят лучше. А Иван бежал то ли из-за страха перед тюрьмой – тогда ведь могли сделать виновным даже без вины, и он уже об этом знал, а у него вины хватило бы на всех, – то ли тоже мечтал досыта наесться фронтовой каши. Но больше всего оттого, что что-то важное оживало в его душе, когда он думал, что фашисты бомбят те города и сёла, где сейчас, может, живёт и не умерла от голода его единственная близкая и родная душа. Наверное, уже подросшая и тоже похожая на мать сестра Сонька, с которой он расстался, прижимая, как тёплый комочек, её тельце к своей грязной рубашке, но к чистому и любящему сердцу брата.
Таких беглецов на фронт, как правило, ловили и возвращали в детдома, но Ивану повезло. Он встретил на своём пути полковника по фамилии Бездомный – не старого и не молодого военкома, но уже повоевавшего в Испании. Тот тоже вырос в детском доме.
Но самым главным для Ивана оказалось то, что Бездомный знал мудрого Моисея Менделеевича и учился у него. И не удержался полковник, чтобы не задать хитроумную математическую головоломку Ивану, дабы проверить, жив ли гений и дух Моисея Менделевича, и убедился, что жив, а Иван ещё добавит: «и здоров», легко и быстро разделается с вычислительным опусом на глазах военкома без карандаша и листка бумаги.
– А вот реши мне такую задачку, – хитро улыбнулся полковник Бездомный: – Одна амёба делится каждую минуту, за час наполняет стакан. За сколько будет наполнен этот же стакан, если положить в него сразу две амёбы?
– За пятьдесят девять минут, – без паузы ответил Иван.
– Молодец! Такие защитники нам нужны! – счастливый полковник пожал Ивану руку. – Или, может, ты знал её уже?
– Тогда в шахматы, – смело парировал Иван и бросил вызов человеку, который был старше его намного. Но и в шахматы Иван выиграл у полковника одну партию, а две всё-таки проиграл.
– Два один в мою пользу! – торжественно объявил полковник. – После войны придёшь, доиграем.
Поговорив с Иваном, военком понял, что в детский дом он больше не вернётся. Одна беда была – лет маловато. На дворе сорок первый, а ему только 15 лет.
– Хорошо, похлопочу, может, припишем немного к возрасту, ты ведь и сам теперь не знаешь, сколько тебе лет, ведь врал небось?
Иван обиделся, но смолчать не смог:
– Я никогда не забуду: пять лет мне было, когда мамка умерла в тридцать первом!
– Прости, Ваня! С Испании вернулся, там уже давно война. Черствею, наверное! Сейчас выпишу тебе направление, пойдёшь учиться в школу младшего офицерского состава. Артиллеристом будешь – там математика нужна, а в лётчики тебя не возьмут: лет мало.
Уходя, Иван услышал сокровенные слова полковника:
– Писал Моисей Менделеевич, как его посадить хотели. И о тебе писал. – Иван вздрогнул. – Хорошо отзывался. Я лично у товарища Сталина за него поручился! О тебе от других людей наслышался разных слов. Не подведи, сынок!
Ёкнуло у Ивана сердце, сразу про поджог вспомнил. Пошёл он, не оборачиваясь, на выход, понимая теперь, почему так скоро и быстро улеглась шумиха вокруг Моисея Менделеевича, и кто хранил и не дал пропасть Ивану за понюшку табаку, и только бы теперь военком не передумал и не переиначил своё решение.
В сорок втором году, Зинаида с трудом в это поверила, Иван воевал под Сталинградом, а в сорок третьем, тут Зинаида от услышанного ахнула, Иван уже в звании старшего лейтенанта командовал батареей 76-миллиметровых пушек.
Один случай как урок он вынес из артиллерийской школы и не мог забыть. Это были срочные курсы по подготовке так не хватавших армии офицеров, и через полгода он окончил школу младшим лейтенантом. Отучился он легко и просто. А вот случай, который и назвать правильно невозможно – то ли это урок мужества, то ли урок страха, то ли расплата за зазнайство и мальчишеское бахвальство. Он не знал тайн и потаённых уголков своего разума, неокрепшего сознания и души. Так и после не смог бы сказать, что всё уже понял, как и любой человек не знает этого до конца своей жизни, пытаясь понять, что отличает его, а что объединяет со всем окружающим миром, особенно в самые трудные и переломные моменты неоднозначных событий. Не знал Иван и не находил ответов и на многие другие вопросы в своей жизни.
Когда немцы бомбили города, нередко появлялись перед этим диверсанты или выползали из нор предатели – подсвечивали фонариками важные объекты, туда немцы и бросали авиабомбы. Таких негодяев по законам военного времени расстреливали на месте.
Иван с двумя такими же, как и он, курсантами заступил на ночное дежурство, чтобы пресекать действия предателей и диверсантов – задача нелёгкая: тебя бомбят, а в бомбоубежище не спрячешься, потому что как их тогда выследишь? Они заметили столб света, устремившийся в небо при приближении гула немецких бомбардировщиков; этот столб светил над тракторным заводом, который собирался выпускать танки. В плен решили взять диверсанта сами.
Что тогда двигало Иваном, он сформулировать не смог, даже когда писал объяснительную записку на имя начальника школы, где он учился на артиллериста. Было ли это желанием выделиться перед другими, прихвастнуть – может быть, он ловил себя на этой постыдной мысли, но всё же попытался успокоить себя тем, что он мог бы получить «Звезду Героя».
Вышел он на предателя раньше всех и скомандовал:
– Руки вверх!
А им оказался здоровый бугай, говорящий хорошо по-русски, но с украинским акцентом. Он взял за штык винтовку Ивана и легко подтянул его к себе.
Чем бы это закончилось, догадаться легко, потому что Иван настолько опешил, что даже забыл про винтовку и про то, что она заряжена и взведена – патрон в патроннике, – можно было стрелять и если не убить врага, то хотя бы наделать много шума, но вместо этого он заорал что было мочи:
– Бра-а-тцы-ы! – и обмочился прямо в штаны, новые армейские, недавно полученные со склада.
Двое курсантов, что были с ним, подоспели вовремя, еле-еле они втроём связали предателя и отвели в комендатуру. Наутро узнали, что его расстреляли прямо там, во дворе комендатуры. Курсант, что по возрасту был самым старшим среди них, сибиряк, пошутил над Иваном:
– Вот так, Ваня, становятся героями! – и показал на его мокрые штаны.
Иван отвёл глаза и покраснел. Воспоминания об этом случае сделали Ивана другим. Он вдохнул страшный холод смертоносного инея, горячий жар разливающегося под ложечкой сильнодействующего яда, который приводит к быстрой смерти. Он пытался потом вспомнить того страшного верзилу, эту тушу жирную и необъятную, из-за чего он не успел запомнить даже его лица: глаз, носа, рта, – потому что всё это вместе сливалось, как в огромную, бездонную и сырую могилу.
…Под Сталинградом, а были с Иваном и те, кто воевал в Гражданскую и даже в Первую мировую, они называли этот город чаще по-старому – Царицыном, война для Ивана здесь сложилась по-особому. Его ещё жалели из-за возраста, откуда-то все узнали, что ему мало лет, что он из детского дома – смуглый, красивый цыганёнок. Речь у него была простая, с особым тембром, похожая на речь диктора по радио, все это заметили, в детдоме не успели, так как голос у него тогда ломался – он взрослел и становился мужчиной. Должность у него была для блезиру – второй заместитель командира батареи; командование понимало, куда его под пули ставить, был как посыльный. Трусом он, конечно, себя не считал, хотел воевать как все и со всеми; как утверждал он сам, на миру и смерть красна. Но его пока во время боя посылали куда-нибудь с «важным» донесением. Пушки часто перетаскивали на себе, он, по молодости, снял с убитых немецких офицеров хорошие кожаные ремни, чтобы легче привязать и тащить пушку, так не резало плечи. И выглядел в этом убранстве как улан без коня, драгун на пушке или разноцветный гусар. За километры было видно ряженого чудака. Тут один дед, артиллерист со стажем, паливший из пушек ещё в Первую мировую, умный и хитрый солдат, незатейливо поинтересовался:
– А что, Ваня, ты не знаешь, кого снайпер первым убьёт?
Иван онемел, он почувствовал подвох в этом вопросе.
– Снайпер в первую очередь значимую и важную фигуру выискивает, офицера, – пояснил дед. – От тебя, Ваня, за версту несёт сытым офицером, правда, пока – комендатуры; ремни-то сними.
Иван всё понял, и уже вечером его нельзя было отличить от любого солдата батареи. Ну куда от этого денешься, какой мальчишка не хотел прихвастнуть хромовыми офицерскими сапогами, кожаным ремнём да медалью, что у него уже блестела на груди, но и её он спрятал от снайпера – теперь ведь уже начинал понимать.
Под Царицыном, а с точки зрения исторической правды – под Сталинградом, немцы оказались в котле окружения. Об этом много уже написано. Ночью им на парашютах сбрасывали продовольствие. Они подавали сигналы ракетами, по-разному – видимо, договаривались по рации. Нашлись и у нас смекалистые ребята: заметят, как немцы сигналят, и тоже такой сигнал подают, например, немцы пускают три красные ракеты, и наши – три красные. Лётчик ничего понять не может, что называется, мечется и бросает груз на середину Волги. Ну а тут кто быстрее… И с той и с другой стороны ползут… Самые отчаянные. У немцев тушёнка была неплохая и хлеб в маленьких буханках, переложенных вощёной бумагой. Небольшой кусочек откусишь, разжуёшь, и полный рот. Вроде как прессованный. Говорили, что он у них по 20 лет на складах вылёживал. Командование строго запрещало играть в такие игры с фашистами. Из-за этой несчастной посылки убивали солдаты друг друга. Немцы-то от голода буйствовали, а наши солдаты, молодые в основном, для развлечения больше устраивали такие «побоища». Ну иногда, чтобы шнапсу немецкого хлебнуть. Но была и другая сторона медали, трагическая. Бросал фашист вместо продуктов и спиртных напитков взрывчатку, это была ловушка – и сигналы ракет, и их цвет были с пилотом обговорены. Начинают потом бойцы её распечатывать, тут она и рвёт всех на куски. Иван по своей глупости участвовал в таких играх, несмотря на все запреты. И на немцев нарывались – всех тогда положили, один Иван двух фашистов сапёрной лопаткой изрубил. На взрывчатку не нарывался – везло, а вот тушёнки вражеской объедался до того, что штаны не застёгивал, потому что до уборной добегать не успевал. Тогда и случилась с ним эта история, которую долго помнил, и тушёнку есть перестал, и по льду Волги за посылками больше не ползал.