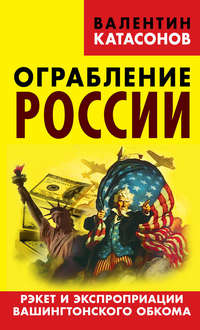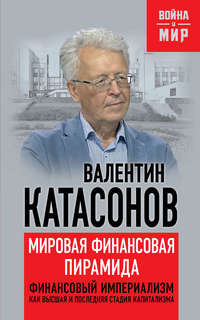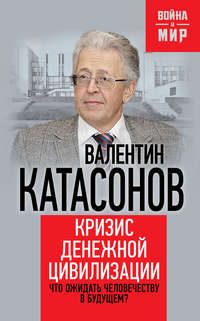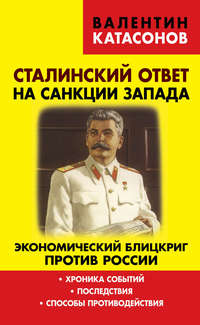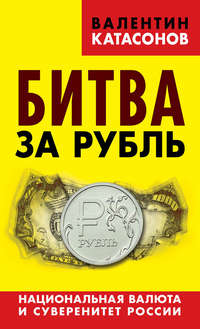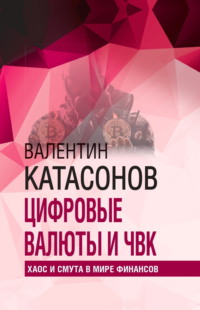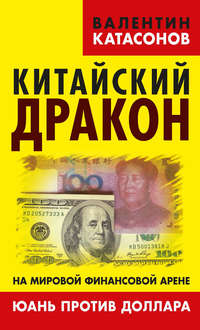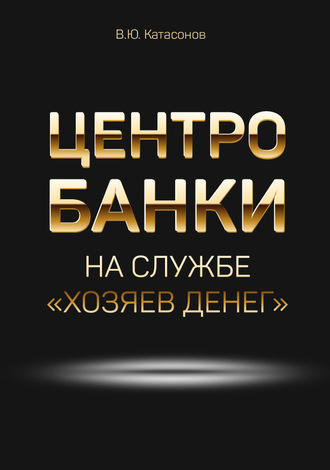
Полная версия
Центробанки на службе «хозяев денег»
Постепенно иностранный капитал внедрился почти во все российские банки. В начале XX века «из 40 акционерных банков (из них 9 петербургских и 4 московских) собственно русскими (и то условно) были только два: Волжско-Камский и Торгово-промышленный, отнюдь не самые крупные»[29].
Государственный банк и золотой рубль
Введение золотого стандарта породило новый аргумент в пользу того, что «капустное поле» следует полностью передать в распоряжение «козлов». Шарапов пишет:
«Основная черта этого денежного обращения (основанного на золотом стандарте – В. К.) – разменность банковых билетов каждую минуту на металл. Приостановка этого размена равносильна государственному банкротству. Это обман и насилие над подданными. Во избежание этого обмана и всяких искушений для парламентарного государства орган денежного обращения в стране отнимается у правительства и становится особняком, ограждаясь от всяких на него воздействий серьезными и положительными статутами».
Почти никто из критиков золотого стандарта в конце XIX века не заметил эту иезуитскую хитрость ростовщиков, которые хотели полностью подмять под себя Госбанк Российской империи. Действительно, с приходом в министерство финансов С.Ф. Витте и подготовкой перехода к золотому рублю в российской прессе на полном серьезе стал обсуждаться вопрос не только о выведении Госбанка из подчинения министерству финансов, но даже полном его выведении за пределы государственной власти и превращении в частное акционерное общество. Вот что пишет С. Шарапов об этом проекте преобразования Госбанка в «Бумажном рубле»: «Другими словами, кликнут клич по всему европейскому Израилю: "Милостивые государи! Не будет ли вам угодно получить в ваше заведование экономическое сердце России? Приходите к нам, составляйте акционерную компанию, получайте золотой фонд, печатайте бумажки и заведуйте нашим денежным обращением, то есть берите в полное владение с правом жизни и смерти наше сельское хозяйство, фабричную и заводскую промышленности и нашу торговлю, словом, весь наш народный быт и труд во всех его видах. Государство от всего этого отрекается, ибо оно верит, что вы с этим лучше справитесь, чем оно само. Вы, конечно, на всем этом будете наживать, но ведь это торговое"».
С введением в России золотого рубля полномочия Госбанка расширились, он получил право денежной эмиссии. Но, слава Богу, до полного отделения этого института от государства и, тем более, превращения его в частное акционерное общество не дошло. Наверное, какую-то роль в этом сыграла активная критика финансовых «реформ», которую С. Шарапов вел в печати, а также выступая на различных собраниях.
А вот в «цивилизованной» Европе центральные банки после введения золотого стандарта окончательно «эмансипировались» от остатков влияния правительства. Но эмиссионные злоупотребления никуда не исчезли. Все равно на Западе денег выпускалось больше, чем это позволял золотой запас. Иногда это делалось нелегально, иногда легально – путем пересмотра норм покрытия денежной эмиссии золотом. Наконец, даже самые щадящие нормы стали мешать ростовщикам. Тогда они вообще отказались от каких-либо норм и отменили золотой стандарт (о чем я уже вначале сказал). А «независимый» статус центрального банка, тем не менее, остался. «Козлы» с «капустного поля» уходить отказались.
Возвращаясь к России, отметим: приватизационные посягательства «европейского Израиля» на Госбанк Российской империи продолжались вплоть до начала Первой мировой войны. Например, А. Нечволодов в своем известном труде «От разорения к достатку» пишет, что в разгар так называемой «русской» революции 1905–1907 гг. в Петербург прибыл целый ряд «международных посредников» для того, чтобы добиться получения от России различных концессий. Всего Нечволодов называет семь таких концессий. Одна из главных— передача права выпуска денег Государственным банком Российской империи иностранному акционерному обществу[30].
Государственный банк Российской империи и Центробанк РФ: сравнение
Наш сегодняшний центральный банк, называемый Банком России, был создан 20 лет назад. Думаю, что «независимость» его от государства существенно больше, чем у Госбанка Российской империи. По сути, Банк России – «государство в государстве». Он является важным звеном в международной сети центральных банков, ядром и управляющим центром которой выступает Федеральная резервная система США (ФРС). Таким образом, Банк России фактически – региональный филиал ФРС. Кстати, ФРС – частная корпорация, в капитале которой участвуют те же самые ростовщики, которые еще в XIX веке пытались приватизировать Госбанк Российской империи.
Современные мировые ростовщики действуют сегодня в отношении России еще более нагло, чем сто лет назад. Они «положили глаз» даже на активы министерства финансов (казначейства), т. е. государственные средства. В качестве примера приведем историю с швейцарским банком UBS, который в середине 2008 года предложил нашему Минфину взять в управление средства нашего Фонда национального благосостояния (на тот момент – почти 33 млрд долл.). Голодный «козел» по имени UBS (голодный – потому, что в условиях начавшегося финансового кризиса потерял 38 млрд долл.) стал активно предлагать свои «услуги» по охране нашего «капустного поля». Думаю, что таких «козлов» вокруг нашего поля бродит немало. Памятуя историю Госбанка Российской империи, изложенную Шараповым, нам надо быть готовым к тому, что не сегодня-завтра у нас начнут обсуждать проект приватизации министерства финансов.
Федеральная резервная система США[31]
Североамериканские Соединенные Штаты: длинный путь к центральному банку
В США Центральный банк в его нынешнем виде появился на два с лишним столетия позднее, чем в Великобритании. Правда, современный Центробанк США имеет длительную предысторию. Еще с 18 века ростовщики прикладывали немалые усилия для того, чтобы в Америке этот институт появился. На короткие периоды они добивались успеха: сначала был создан Банк Северной Америки (1781–1785), после этого – Первый Банк Соединенных Штатов (1791–1811), наконец, – Второй Банк Соединенных Штатов (1816–1834). Затем на протяжении 80 лет Америка жила вообще без центрального банка.
Америка в период колонизации была достаточно бедна золотом и серебром. Именно это обстоятельство привело к появлению денег, которые не были металлическими и не имели какого-либо товарного обеспечения. Их единственным обеспечением было доверие к выпустившим их властям. Назывались они «колониальными расписками».
«Не считая Средневекового Китая, где бумагу и процесс печатания изобрели намного раньше, чем на Западе, мир познакомился с государственными бумажными деньгами только в 1690 г, когда правительство Массачусетса эмитировало неразменные бумажные деньги»[32].
Тут следует сделать уточнение: мир познакомился с государственными бумажными деньгами, неразменными на золото. Государственные бумажные деньги, разменные на металл, появились в Европе раньше – в начале XVII века.
В печатании неразменных бумажных денег уже участвовали все североамериканские колонии за исключением Виргинии. Впрочем, в конце 1750-х гг. и эта колония стала печатать такие деньги. Бумажные деньги не ссужались в виде кредитов и не использовались для открытия депозитов, а служили исключительно в качестве средства обмена и для уплаты местных налогов. Такая денежная система способствовала быстрому росту товарооборота в колониях и была полностью независима от ростовщических денежных систем метрополий (Англии и Франции), которые пытались навязывать кредиты колонистам. Но им эти кредиты были не нужны.
Колониальные расписки были общественным благом, доступным каждому, кто что-то производил и предлагал для продажи на рынке. Конечно, при использовании бумажных неразменных денег периодически возникала инфляция из-за того, что власти злоупотребляли печатным станком. Но ведь злоупотребления возникали и в тех странах, которые использовали разменные на золото бумажные деньги, когда таких денег выпускалось на большие суммы, чем имелись запасы золота. Главное – система бумажных неразменных денег гарантировала финансовую независимость североамериканских колоний от метрополии.
Таким образом, Англия, сильно нуждавшаяся в металлических деньгах (долг правительства перед Банком Англии неуклонно рос), не могла «доить» североамериканские колонии. В 1764 году английским королем Георгом III был издан Указ, требовавший, чтобы колонисты платили налоги Англии золотом, отказались от «колониальных расписок» и пользовались деньгами метрополии (которые им, естественно, надо было брать в кредит под проценты). После введения этого Указа североамериканские колонии начали быстро нищать. Доведенные до отчаяния колонисты подняли восстание и начали борьбу за независимость. Для финансирования войны колонии вновь вернулись к печатанию бумажных денег: вначале денежная масса равнялась 12 млн долл., а в конце войны – 500 млн долл. Война, как известно, окончилась признанием Лондоном суверенитета Конфедеративного союза американских штатов. Однако положение в новом государстве оставалось тяжелым: денежная система была расстроена, власти имели большие долги, особенно перед Францией, которая в войне выступала союзницей колонистов.
Не мытьем, так катаньем ростовщикам удалось заставить правительство Америки отказаться от «колониальных расписок» и создать в 1781 году центральный банк, который был похож на аналогичный институт в Англии. Назывался он Банк Северной Америки (БСА). Он действовал как коммерческий банк на территории всех штатов, имел право эмитировать бумажные деньги сверх золотого запаса, ссужал деньги федеральному правительству под облигации последнего, держал на счетах средства Конгресса. Таким образом, БСА эмитировал деньги, которые создавали долг.
Главным организатором БСА был суперинтендант финансов США (в 1781–1784 гг.) Роберт Моррис[33]. Предполагалось, что первоначальный уставный капитала банка будет равен 400 тыс. долл. Однако Моррису не удалось собрать такой суммы, и он запустил руку в государственную казну: взял золото, которое власти получили от Франции в виде займа, для формирования резерва банка. Затем он выдал французское золото в качестве кредита самому себе и своим партнерам (в том числе Томасу Уоллингу, будущему президенту БСА, и Александру Гамильтону, будущему министру финансов). За счет кредита они приобрели акции БСА. Данная схема приобретения акций за счет казенных средств, кстати, затем не раз использовалась при создании других центральных банков, которые первоначально имели статус частных предприятий акционерного типа.
Банк Америки получил хартию (лицензию) в 1781 году. Обычно она выдавалась на 20 лет. Однако отцы-основатели быстро сообразили, что БСА поставит страну под контроль ростовщиков, поэтому уже через четыре года приняли решение о его ликвидации и отозвали хартию. Так, третий президент США Томас Джефферсон предупреждал, какую угрозу представляет собой центральный банк для свобод, завоеванных американской революцией. Он считал, что наращивание национального долга и перекладывание его на плечи будущих поколений обрекало эти поколения на кабалу:
«Если американский народ когда-либо позволит банкам контролировать эмиссию своей валюты, то вначале произойдет инфляция, а затем – дефляция, банки и корпорации, которые возникнут вокруг них, лишат людей всякого имущества, а их дети окажутся беспризорными на континенте, которым завладели их отцы. Право выпускать деньги должно быть отнято у банков и возвращено конгрессу и народу, которому оно принадлежит. Я искренне полагаю, что банковские институты более опасны для свободы, нежели регулярные армии»[34].
Однако вскоре на смену БСА пришел новый центральный банк – Первый Банк Соединенных Штатов (ПБСШ), создание которого «проталкивал» министр финансов Александр Гамильтон (за ним стоял Банк Англии и Натан Ротшильд). Он получил хартию в 1791 году и начал активно предоставлять ссуды правительству США, объем которых достиг 6,2 млн долл.
В этот же период индекс оптовых цен вырос в США с 85 до 146 пунктов. ПБСШ просуществовал 20 лет (срок действия выданной ему лицензии). В 1811 году находившийся в то время у власти четвертый президент страны Джеймс Мэдисон категорически выступил против продления срока действия лицензии ПБСШ. Некоторые авторы пишут, что Натан Ротшильд «предупредил, что Соединенные Штаты окажутся вовлеченными в самую катастрофическую войну, если лицензия банка не будет продлена»[35]. Совпадение или нет, но в 1812 году Англия начала войну против Соединенных Штатов.
Первый Банк Соединенных Штатов действовал на протяжении 20 лет. Однако продления срока его хартии не последовало.
В 1816 году был создан и получил хартию от Конгресса США Второй Банк Соединенных Штатов (ВБСШ). Он начал активно воздействовать на экономическую и политическую жизнь страны. Через несколько лет после учреждения ВБСШ «накачал» хозяйство страны большим количеством денег, которое многократно превышало золотой запас, что создало экономический бум и инфляционный рост цен. Затем началось изъятие денег, за чем последовали резкий экономический спад и дефляция.
В 1829 г. президентом стал Эндрю Джексон — первый президент США, избранный как кандидат от Демократической партии, который и считается одним из ее основателей. Он открыто объявил войну банкам. Первым его делом был отказ в возобновлении привилегий Национальному банку. В первом своем ежегодном послании к Конгрессу он объявил о намерении отозвать лицензию у Второго банка Соединенных Штатов. При нем началось расследование деятельности ВБСШ. Комиссия по расследованию, в частности, констатировала: «не вызывает сомнений, что это сильное и мощное учреждение было активно вовлечено в попытки оказывать влияние на выборы государственных служащих с помощью денег».
Джексон вступил в серьезное противостояние с президентом Второго банка США Николасом Биддлом (1786–1844, 58 лет), которое длилось 7 лет, до 1836 года. В 1831 г. Николас Биддл направил в Конгресс законопроект о продлении лицензии банка. Законопроект прошел обе палаты Конгресса, но Эндрю Джексон наложил на него вето, которое Конгресс не сумел преодолеть.
В 1832 году президент страны Эндрю Джексон начал свою вторую предвыборную кампанию под лозунгом: «Джексон и никакого банка!» В том же году он вновь потребовал отозвать лицензию у банка и в своем выступлении перед Конгрессом обосновал требование:
«…Более 8 миллионов акций этого банка принадлежит иностранцам… разве нет угрозы нашей свободе и независимости в банке, который так мало связывает с нашей страной? Контроль нашей валюты, получение денег нашего общества и удержание тысячи наших граждан в зависимости были бы значительно больше и опаснее, чем вооруженная сила врага»[36].
К 1833 году объем банкнот и депозитов Второго банка вырос до 42,1 млн долл., что по тем временам было гигантской суммой. И всю эту конструкцию Эндрю Джексону удалось разрушить. В 1833 году он с большим трудом вывел правительственные средства из Второго банка в ряд коммерческих банков США (для этого ему пришлось заменить двух секретарей казначейства, только третий секретарь исполнил указание Джексона). Биддл объявил войну президенту страны, резко сжав объем денежной массы в обращении, что вызвало депрессию в хозяйстве. Вину за кризис люди из окружения Биддла пытались взвалить на президента Джексона, удалось даже начать процедуру импичмента. Противостояние между группой Джексона и группой Биддла достигло апогея.
С большим трудом и риском для жизни президенту Джексону удалось добиться ликвидации ВБСШ. Причем, он не только сумел отозвать лицензию Банка (досрочно, в 1834 году), но также в кратчайшие сроки (к началу 1835 года) погасить полностью все долги правительства (это кажется невероятным на фоне сегодняшнего государственного долга, который не сегодня-завтра достигнет планки в 20 трлн долл.). Это вызвало бешенство со стороны ростовщиков. На президента Джексона было совершено два покушения, но, к счастью для него, оба оказались неудачными. Эндрю Джексону в отличие от других американских президентов, которые вступали в схватку с ростовщиками, удалось умереть своей смертью. Он дожил до 77 лет. Перед смертью Джексона спросили, что он считал своим величайшим достижением. Он ответил, не задумываясь: «Я убил Банк».
А банк потерял свой федеральный характер и стал мало-помалу клониться к упадку. В 1839 г. Биддл оставил свой пост, а спустя два года банк рухнул.
После этого Америка на протяжении 80 лет жила без центрального банка, хотя банкиры все это время предпринимали постоянные попытки навязать американскому народу данный институт[37].
Но борьба за создание центрального банка продолжалась. Некоторые президенты пытались вернуться к беспроцентным неразменным деньгам, которые напоминали «колониальные расписки». Например, это сделал президент А. Линкольн. Для ведения войны с южными штатами он обратился за кредитами к европейским банкам, контролируемым Ротшильдами. Банкиры предложили деньги под высокие проценты (от 24 до 36 % годовых). Это подвигло Линкольна принять решение о выпуске собственных казначейских денег, которые не были обременены процентом. Они получили название «гринбеки» (от англ, green back – зеленая спинка, от зеленого цвета бумажных долларов).
Благодаря «гринбекам» денежную массу в стране за годы гражданской войны удалось увеличить с 45 млн долл, до 1,77 млрд долл., т. е. почти в 40 раз. Конечно, в стране началась инфляция, но военные расходы полностью финансировались, а главное, – стране удалось избежать попадания в долговую «петлю» Ротшильдов. За такое посягательство на власть банкиров Линкольн 14 апреля 1865 года был убит. Сегодня уже неопровержимо доказано, что убийство было «заказным», а «заказчиками» выступали европейские банкиры – те самые, которые в свое время были держателями акций ПБСШ и ВБСШ (Первого и Второго банков Соединенных Штатов).
Незадолго до трагической смерти президента Линкольна (в 1863 году) ростовщикам удалось протащить через Конгресс Закон о национальном банке (National Bank Act). Это был еще один шаг на пути к созданию централизованной банковской системы с центральным банком во главе. До этого банковская система в стране была полностью децентрализованной; она состояла из банков отдельных штатов, которые имели разный масштаб, но не было вертикальной иерархии. Закон предусматривал создание системы национальных банков нескольких уровней: а) банки центральных резервных городов (в эту группу входили только крупные банки Нью-Йорка);
б) банки резервных городов (с населением более 500 тыс. человек);
в) прочие банки. Национальные банки получили право выдавать ссуды правительству. Деньги (банкноты), которые они выпускали, были обеспечены не золотом, а долгом (именно – облигациями государства). Легализовалась система частичного резервирования обязательств национальных банков. Уже полтора века назад стали закладываться основы той системы денежной эмиссии, которая существует сегодня в США – эмиссии под долг правительства.
Президент Линкольн был резко против такой национальной банковской системы, о чем он уже после принятия закона предупреждал Америку:
«Власть денег грабит страну в мирное время и устраивает заговоры в тяжелые времена. Она более деспотична, нежели монархия, и более себялюбива, нежели бюрократия. Я предвижу наступление кризиса в ближайшем будущем, что лишает меня спокойствия и заставляет опасаться за безопасность моей страны. Корпорации вступили на престол, грядет эра коррупции, и власть денег в стране будет стремиться продлить свое господство, воздействуя на предрассудки народа до тех пор, пока богатство не соберется в руках немногих и республика не погибнет»[38].
Удивительно, насколько актуально и сейчас звучат слова президента Линкольна, произнесенные почти полтора столетия назад. В частности, он обращает внимание на то, что банки «воздействуют на предрассудки народа». Сегодня сила этого воздействия возросла на порядки – с помощью СМИ, университетов, «профессиональных экономистов» и т. п.
Что касается слов «пока богатство не соберется в руках немногих», то сегодня уже можно констатировать: процесс «собирания» близок к своему завершению, причем не только в пределах США, но и всего мира. Фраза «власть Денег… устраивает заговоры в тяжелые времена» может быть подтверждена десятками конкретных примеров. Наиболее близкий нам – организация в нашей стране трех так называемых «русских революций» международными банкирами – Ротшильдами, Варбургами, Шиффами и др.
Примерно в то же время из банка Ротшильдов в Лондоне было послано письмо в один из банков Нью-Йорка. Оппоненты президента Линкольна писали:
«Немногие разбирающиеся в системе (процентных денег) будут либо настолько заинтересованы в ее прибылях, или же настолько зависеть от ее покровительства, что со стороны этого класса сопротивления не будет, тогда как, с другой стороны, огромная масса народа, умственно не способная к постижению грандиозных преимуществ, которые капитал извлекает из системы, будет безропотно нести свое бремя, быть может, даже не подозревая, что система враждебна ее интересам»[39].
Одно из редких документальных подтверждений истинных намерений ростовщиков. Звучит цинично, но в точности просчета дерзких планов отказать нельзя. Вся «финансовая наука» Ротшильдов сводится, прежде всего, к выявлению и просчету человеческих слабостей и использованию их в своих интересах. Ротшильды в первую очередь играют не на финансовых рынках, а на человеческих слабостях!
Всего за период с момента создания независимого государства до учреждения того центрального банка, который до сих пор функционирует в США, право выпускать американские деньги восемь раз переходило от правительства к центральному банку и обратно. На какие только ухищрения не пускались банкиры для того, чтобы убедить общественность и законодателей в необходимости учреждения центрального банка!
Главными инициаторами создания центрального банка в Америке во второй половине 19 века стали Ротшильды. Они направили для реализации этого проекта в Америку своего агента Дж. П. Моргана, который в 1869 году создал в Соединенных Штатах компанию Northern Securities. Позднее был создан банк JPMorgan, который стал эффективным инструментом продвижения интересов Ротшильдов в США. Другими американскими банками, подконтрольными Ротшильдам, были Kuhn, Loeb & Со. и August Belmont & Со.
Важным инструментом продвижения проекта создания центрального банка стала Национальная Ассоциация Банкиров (НАБ). В частности, НАБ инициировала банковскую панику 1893 года, разослав членам ассоциации письма, в которых банкирам предписывалось потребовать у своих клиентов возврата кредитов и создать резкий дефицит денег на рынке. Паника нужна была Ротшильду и другим ростовщикам для того, чтобы возбудить в Конгрессе подготовку законопроекта о центральном банке, который бы занялся предотвращением и ликвидацией подобных банковских паник. В 1907 г. банковская паника еще раз была инициирована группой банкиров, за которыми стояли Ротшильды. Использованный при этом метод был прост – распространение слухов о неплатежеспособности некоторых банков (слухи начал распространять Дж. П. Морган через подконтрольные ему газеты). В условиях банковской паники Морган получил разрешение на необеспеченную эмиссию в размере 200 млн долл., которые затем были предоставлены в виде кредитов для спасения падающих банков. Морган фактически сыграл роль центрального банка и выглядел спасителем страны[40].
Для политической поддержки проекта ростовщики не пожалели средств на то, чтобы привести к власти «своих» президентов – сначала Теодора Рузвельта (1901–1909), а затем Вудро Вильсона (1913–1921). А одновременно – не допустить переизбрания на второй срок в 1912 году президента Уильяма Тафта[41], который был настроен резко против проекта создания центрального банка.
Обычно про Теодора Рузвельта редко вспоминают в контексте истории создания центрального банка страны. Однако именно он принял решение о создании Национальной денежной комиссии, которая должна была всесторонне рассмотреть вопрос о целесообразности такого института. Примечательно то, что в указанную комиссию вошли люди, представляющие интересы главных ростовщиков: сенатор Нельсон Олдрич (председатель комиссии), банкиры Пол Варбург, Фрэнк Вандерлип, Чарльз Нортон и другие. Все они были связаны кровными или деловыми отношениями с Рокфеллерами, Морганами, Ротшильдами.