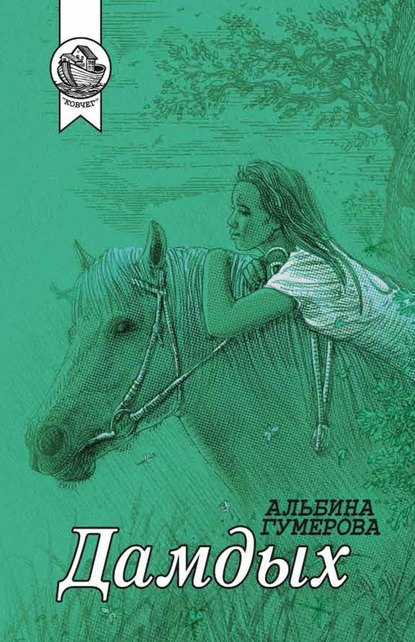Полная версия
Ковчег-Питер
Мы пошли в Iki, затоварились. Размеры алкогольного отдела впечатляли: в этом первом в городе супермаркете, казалось, можно заблудиться. Поговаривали, что и правда были случаи. Сэкономив по три цента с бутылки, мы тормознули автобус, запрыгали в руках ученические, исчезли в ладони кондукторши кругляшки монет. До городского парка три остановки – и там уж можно не бояться полиции, на манер западной следящей за моральным обликом молодого поколения. Хреново следящей. Но мы-то что, мы клей не нюхаем. Впрочем, Вадька и Эдвин пробовали. Судя по рассказам, в этом что-то есть. Быть может, это тот самый пунктик в списке того, что следует в жизни испытать, требующий, по крайней мере, галочки.
Я пробираюсь к Дане. В моем брюхе плещется уже целая бутылка пива, в руке вторая, я весел, энергичен и самоуверен. Все бредут толпой по парковым дорожкам, солнце клонится к горизонту, спотыкаясь лучами о гипотенузы сосен (сумма квадратов катетов и так далее). Воздух тяжел и пахнет шишками. Густеет вместе с падающим солнцем холод.
Она говорит о чем-то с Наташкой Стефанович, которая чем-то похожа на Софию Ротару, впрочем, наверное, натянутой кожей лица и волосами, собранными в конский хвост.
– Привет, девчонки, – говорю я.
Наташка едва удостаивает взглядом:
– Уже виделись…
Но мне на нее в данный момент наплевать.
– Дануте, как тебе наш класс?
– Хороший класс, дружный!
– Да, наш класс дружный! – ухмыляюсь.
Стефанович на меня косится, мол, что этому кобелю тут надо.
– Я Дима, – не отрываясь, наглый, смотрю прямо в глаза Дане.
– Я знаю, – отвечает она; мне кажется, на ее щеках легкий румянец.
И я, счастливый, убегаю.
Ко мне пробирается Батизад. Наглый, хулиганистого вида, весь в цепях и серьгах. Он уже порядком выпивший. Глаза его зло горят, на губах в самых уголках белая пена:
– Слышь, чмо! Оставь ее в покое…
– Чего? – я тоже пьяный и возбужденный. – Ты будешь мне указывать?!
– Я тебя, тварь, предупредил!
Победа, как видится, за мной. Свободный и счастливый готов выпить с каждым. Напиваюсь пьяным.
Нахожу себя наутро дома. В руке зажата бумажка с каким-то телефоном. Питая надежду, звоню:
– Здравствуйте, позовите, пожалуйста, Дануте.
– Привет, Димка, – отвечают, – Какая на хрен я тебе Дануте, я Арина, мы познакомились в баре. Помнишь?
– Нет!
Вешаю трубку. Карманы пусты. Голова тоже.
4
Стучусь к Андрюхе. Звонок не работает. Барабаню ногой со всей силы, пробивая до дыр тупым массивным ботинком фанерную дверь. Заглядываю в дыру – темно, все без движения. Вдруг дверь дергается и открывается, вижу настороженный глаз.
– Тебе чего?
– Андрей дома?
– А, Андрей, – дверь раскрывается шире, появляется вспухшее, болезненно серое лицо. – Зайди.
Я протискиваюсь внутрь, по-прежнему темно, еще темнее, когда закрывается за мной дверь. Я знаю, ничего теперь не стоит огреть меня кочергой, выскрести из карманов деньги, снять куртку, ботинки, джинсы, для верности всадить мне в сердце нож, а потом, пропив мои деньги, продав мои вещи, срезать с моего тела мясо и стоять на углу у аптеки и предлагать его прохожим под видом только что освежеванной свиньи. Вот идет бабуль, она останавливается и покупает, варит из меня суп, ждет, когда я вернусь из школы. Я поем и, быть может, попрошу добавки.
Но ничего такого не случается, открывается еще одна дверь, я попадаю в прихожую, чуть не наступаю в собачье дерьмо, которое лежит прямо на пороге, собака тут же, прыгает и радуется, и для полной картины от радости мочится.
Тусклый свет добирается с кухни. А это болезненное существо, по всей видимости, женщина, сгорбившись, кутаясь в грязный халат, медленно выходит на свет. Меня поражают ее белые в содранных болячках руки, поражает ее худоба. Я, обалдевший, все так же стою без движения, только у ног извивается лохматая грязная собака. Я, честно, такого не ожидал.
– Извините, Андрей дома?
Но никто мне не отвечает.
В квартире гробовая тишина, я иду по коридору, вижу перед собой дверь, еще две двери по каждую руку. Мне кажется, что дверь в Андрюхину комнату слева, я приоткрываю ее. Вижу кровать, на ней в груде грязного тряпья спит человек, прямо в одежде, только ширинка расстегнута и видно отсутствие нижнего белья, в воздухе стоит тяжелый запах перегара. Я распахиваю дверь шире, передо мной окно, перед ним еще одна кровать, и, хотя на ней такой же грудой лежит всякое тряпье – видны скомканные серые простыни, – на ней нет никого. Больше в комнате нет ничего, на стене виден след стоявшего здесь шкафа, в углу навалены платья и пальто, какие-то советские книги. Человек на кровати ворочается и открывает глаза, смотрит на меня невидящим взглядом, кожа лица отчетливо желтая.
– Андрей здесь? – спрашиваю.
Но лицо искривляется, глаза в мучении закрываются. Мне не отвечают. Я прикрываю дверь.
Я стучусь в дверь напротив, толкаю плечом, передо мною маленькая комнатка. В окне небо, деревья с кисточками первой листвы. Все остальное в комнате погружено в полумрак и покрыто ровным слоем пыли: стол, телевизор, сервант с застывшим в нем тусклым хрусталем и ровными корешками книг. Крашенные темной краской доски пола со следами босых ног, обрывающиеся посредине комнаты. Я смотрю вверх – люстры нет, только черный крюк. Но и здесь никого нет.
Иду на кухню. Там сидит маленькая измученная похмельем женщина, болезненно курит, сутулится, смотрит на меня в раздражении:
– Принес?
– Что принес?
– Не юродствуй, доставай скорее и наливай…
– Но у меня нет ничего.
– Тогда иди скорее и принеси, а то я сейчас сдохну!
– Мне только нужен Андрей.
– Андрей?.. Его нет… Его больше нет…
– В смысле?
– Ты принес? Наконец! Доставай скорее и налей мне, я очень прошу, не мучай меня, налей!
Боже, все это просто неправдоподобно, я пячусь к выходу, меня охватывает ужас, панический страх, я разворачиваюсь и чуть ли не бегом устремляюсь к выходу.
На лестнице встречаю его, Андрея.
– Ну слава богу! Ты живой!
– А почему я должен быть мертвым?
– Я только что был у тебя, твоя мать сказала, что тебя больше нет!
– Меня нет, я для них больше не существую, есть только это…
Он достает бутылку водки, ухмыляется.
– Ты что, ходишь им за водкой?
– Да.
Он отпихивает меня, поднимается по лестнице.
Я слышу тихое:
– Чем скорее они сдохнут, тем лучше…
Я иду, меня пробирает озноб. Ветер продувает навылет мою легкую курточку, небо заволакивает облаками, начинается снег. Крупные пушистые снежинки. Мир становится сумрачным, холодным и пустым.
Мне становится страшно и одиноко. Нет меня во всем городе, город пуст, все умерли и похоронены, все собаки и кошки сдохли, а птицы попадали с неба мертвыми, и я точно знаю, что умру сейчас и я – в следующее мгновение, и этому никак не помешать, но больше пугает не смерть, а именно одиночество. С твоей смертью пустота не заполнится ни печалью, ни доброй памятью. Вот это ужасно.
– Привет, Димка! – из снежной пелены появляется Дана, мне тепло улыбается. Я теряюсь и застываю посреди тротуара, на меня налетает прохожий, бурчит: «Асилас».
Дана тоже в легкой курточке. Тепла улыбок не хватает, плечи ее подрагивают.
– Зима вернулась.
– Да, – отвечаю. Потом, спохватившись: – Слушай! Идем в кафе?
– Идем! А куда, я здесь ничего не знаю…
– Ну как же! Тут совсем рядом!
Тащу ее в кафе «Сваля», что на левой стороне Манто, при пересечении с Мажвидо-аллеей, веду мимо столиков, приставленных к стойке бара. Кафе похоже на вагон-ресторан – такое же вытянутое, и так же покачивает, когда разворачиваешь поезд на обратный путь домой. Но не пить мы сюда сегодня пришли. Нет-нет, не неси, официант, улыбаясь и подмигивая, пиво со специальным раскрепощающим порошком! Неси сегодня кофе! Два кофе! И не дергай ты так похабно своим правым глазом, пойми, это же Дана, моя милая Дана!
– Как тебе здесь?
– Классно, но уж больно накурено!
– Хочешь, уйдем!
– Нет-нет, давай просто попьем кофе.
Несут кофе, ставят нам на столик. Рассеянно киваю – весь в опасениях сморозить или сделать что-то не так.
– Дима, ты так вчера напился. Меня целовал.
– Правда?! – ужасаюсь.
– Шутка! – смеется. – Ты правда ничего не помнишь?
– Нет. Я вел себя ужасно?
– Предлагал нам пожениться.
– А ты?
– Я, конечно же, была согласна.
– А потом?..
– А потом ты с Айварами, с Большим и Маленьким, куда-то срулил.
Так вот почему так ухмыляется этот официант. Мы бухали именно тут. Именно тут я и подцепил какую-то кралю, помню, тискал ей сиськи и целовал взасос. А Айвары вдвоем напротив хлестали рюмку за рюмкой и меня провожали в дальний путь. Я вспомнил, что это было что-то вроде мальчишника.
Справка. У нас в классе есть два Айвара. Один очень высокий – играет в баскетбол и говорит по-русски с едва заметным стальным акцентом. Другой – коренастый, жмет у себя в подвале штангу и курит траву с Тимкой из соседней парадной. Носит широкие штаны и слушает Ice Cube. Большой Айвар предпочитает пиво и литовскую попсню. Что Большой, что Маленький – они мои дружбаны. Как уже стало понятно, частенько все вместе, и с Витюхой тоже, напиваемся вдрабадан! Витюха смешно чихает и чем-то похож на индейца из книжек Фенимора Купера. Книжки я не читал, но видел картинки – вылитый Витюха! Пьем частенько и у Витюхи на квартире, режемся на Sega – в «Мортал Комбат», смотрим порнуху и фильмы с Джимом Керри и веселыми ниггерами. Все это удивляет и радует. Маленький Айвар шарит в математике. Витюха много прогуливает из-за того, что много спит. Но только Большой Айвар и может вытащить меня из дома, когда у меня хандра. Конец справки. Продолжаем разговор…
Кто-то кидает камушки в окно. Наверное, Андрюха, но я лежу на своей кровати и даже не думаю выглядывать в окно. Мне он стал неприятен. Так нельзя. Я ничего не понимаю. Но мне плевать. У меня есть Дана. Думая о ней, я улыбаюсь.
Раздается звон разбитого стекла, в комнату влетает массивный булыжник.
– Ты что, охренел?! – подлетаю я к окну. Смотрю во двор. Там никого нет, только ветер тащит по земле лист газеты. Испуганно поджав хвост, пробегает мимо собака, шмыгает под арку.
Небо серое. Неприветливое. Бабуль храпит за стеной. В комнате быстро становится холодно. Меня пробирает дрожь.
Вздрагиваю от телефонного звонка.
– Алло!
– Алло! Алло! Сын!
– Папа?!
– Слышишь меня? Как вы там?
– Хорошо папа! Все хорошо! Как ты? Мы очень скучаем!
– У меня все отлично! Мы сейчас у берегов Аргентины! Скоро уже поплывем домой!
– Папа, как погода? Хотя плевать… Сейчас позову бабушку!
– Сын, как ты? Как учеба? Я не слышу тебя! Как бабушка? Дима! Я не слышу…
Связь обрывается. Слушаю, сжав судорожно трубку, короткие гудки. Жду. Жду чуда! Так хочется опять слушать отца, его взволнованный и радостный голос. Я понимаю, что невероятно по нему скучаю, по щекам текут слезы. Я не замечаю, я пытаюсь между коротких гудков поймать его голос.
– Папа, я так по тебе скучаю…
Комната усыпана осколками. Телефонная трубка захлебнулась гудками. Бабуль спит. Я сползаю на пол, и у меня начинается истерика. Слезы душат меня.
– Я так по вам скучаю…
Мне было шесть, когда умерла мама. Я ничего не понимал. Совсем ничего. Мне только сказали:
– Мама улетела на небо.
Но не настолько я был мал.
– Мама умерла?
– Да.
Вокруг меня были одни незнакомые люди, они меня гладили по голове и повторяли:
– Бедный мальчик…
– Почему мама умерла? – допытывался я.
– Она болела и умерла.
– Почему врачи ее не вылечили? – не успокаивался я.
Я не плакал. Был серьезен, сосредоточен, требователен к ответам.
А они все повторяли:
– Бедный мальчик.
Я смотрел на маму. Она, закрыв глаза, лежала неестественно вытянувшись, была ненастоящей. Я еще сомневался, но, когда мне сказали поцеловать ее в лоб перед тем, как ее начнут засыпать землей, под губами я почувствовал что-то очень холодное и твердое. Как лед. Я заплакал. Заплакал от ужаса.
Они шептали вокруг все одно и то же:
– Бедный… бедный…
А я точно знал, что меня обманули. Что это не может быть моей мамой. И я очень боялся того, что закапывали. Я обхватил ноги отца, вжался в них и дрожал. И требовал:
– Я хочу к маме! Пустите маму ко мне.
Мне казалось, что ее не пускают все эти люди. Я рыдал от ненависти к ним.
Смотрите, вот фотография. Я сижу рядом с мамой. В руках у меня шариковая ручка, я рисую самолеты со звездами на крыльях, но теперь отвлекся и смотрю в объектив. Улыбаюсь. Улыбается мама. Наши улыбки очень похожи, овал лица, глаза мамины, нос папин. Мама чистит картошку и бросает ее в кастрюлю с водой, картошка, падая, брызгается, капли взрывают мои самолеты. За нашими спинами, посмотрите, видны старые часы с кукушкой, часть окна, занавески, тюль с крупными изображениями ромашек. Мама в домашнем халате. Я в оранжевой пижаме. Фотография черно-белая.
Еще есть аудиопленка.
– Мама, я хочу риса.
– Больше ты ничего не хочешь?
– Мама, я хочу риса!
– Расскажи лучше стишок.
– Какой стишок! Какой еще стишок! Я усе скагал.
– Не балуйся! Вот на елку пойдешь – что ты будешь рассказывать Деду Морозу?
– Вырастала елка!!!
– И все?
– Все!
– Ну и подарка не получишь! Вот в прошлый раз только благодаря мне ты получил котика!
– У меня уже был такой котик, не надо мне два таких котика…
– Ы-ы! Поплачь…
– Ты! Поплачь!
– А если Лена придет, что ты ей скажешь?
– Лена, покажи калена!.. Писать хочу!
– Давай, пописай в баночку.
(журчащий звук)
– А-а-а… – блаженный вздох.
– А теперь покакай, – смех.
– Риса хочу!
Приходит Большой Айвар, чуть ли не силой вытаскивает меня на улицу, спасает от накатившей тупой меланхолии. Идем к Маленькому Айвару. Берем с собой его собаку. Зовут ее Герда, порода «колли», добрая и неповоротливая. Идем в парк Мажвидаса, материмся, пошлим, разглядываем идущие впереди задницы. У меня выпытывают подробности моего соития с Даной, я бессовестно вру, со смехом имитирую, как она вскрикивает в экстазе, а самому мерзко и печально. По-прежнему пасмурно.
5
Последняя фишка – спать по два часа в сутки. Ночью либо рисую, либо читаю. Собственно, не важно, чем ты занимаешься, главное, ради чего ты себя мучаешь, – это тишина в квартире, в городе. Человеческое существование невероятно захламлено звуками. Только ночью словно снимаешь с себя грязные одежды, слоняешься голый из комнаты в комнату, разглядывая себя в черно-белые зеркала. Ты возбужден и беззвучен, расправляет крылья черная уродливая летучая мышь. Перелетает с места на место. Пытаешься поймать ее взглядом, но видишь только краешком глаза. Запираешься в ванной. Долго смотришь на себя в зеркало, глаза в глаза – ни намека на сон. Маешься.
Просыпаюсь с рассветом. Смотрю, сидя на кухне, как светлеет воздух и ползут длинные тени. Небо сильное, краски еще не разбавлены дневной суетой, солнце испаряется. Метла печального дворника скребет асфальт. Завариваешь кофе, пьешь медленно, не спеша. Поднимается бабуль, звуков все больше и больше, звенят кастрюли, бьются и пищат водопроводные трубы, дом просыпается. На лестничной площадке уже слышны перебирающие ступени шаги – шуршат подошвы.
На первый урок все равно опаздываешь. Это как курить – вредная привычка, от которой так просто не отделаться. Математичка ставит в журнал всем опоздавшим нолики. Берешь мел и, вместо того чтобы решать примеры с производными и интегралами, ставишь крестики, но вот ответный нолик – опять никто не победил. Ладонью все размазываешь. Еще пытаешься доказать теорему, но это невозможно, так как язык не слушается, и слово «перпендикулярно» – превращается в «перпендир». Все ржут. Тебе вяжет язык. Хочется подойти к окну, распахнуть его и покурить. Математичка издевается. Поднимает одного за другим – ищет решения.
Саня Желобаев, сморозив полный бред, возмущенно вскакивает:
– А я что сказал?
Математичка бесится. Лепит двоечку.
После математики химия. Кабинет, по каким-то там правилам, проветривается, все стоят у подоконника, смотрят на собачьи игрища. Как видно из титров, кобель прилип, письку не вытащить, сей факт крайне интересен юным натуралистам. Все улюлюкают и лыбятся. Химичка обнимает классный журнал, тихо, но настойчиво зовет в класс. Никто не реагирует. Все повернуты к ней спиной, делают вид, что это в порядке вещей. Химичка тихо бесится. Предложение свое повторяет. Результат все тот же. Минут через пятнадцать, когда уже и коту понятно, что урок сорван, у химички истерика, и по коридору слышны гулкие шаги Барвена, измученный кобель падает, сучка дергается: жучка за внучку – вытянули репку.
– Ого-го! – всеобщее одобрительное. Барвен багровеет и что-то орет. Химичка в обмороке, а в классном журнале «перпендир» тридцати двух двоек.
Дальше биология. Полученные знания идут в дело, скрещиваете кроликов белых с черными – получаете зайчат фиолетовых. Красивыми зелено-прозрачными становятся листья комнатных растений в лучах солнца. Играешь ресницами, расщепляя солнечный свет по спектру. У биологички блузка облегающая, джинсы подчеркивающие – все парни отказываются выходить к доске. Не спасают даже просторные джинсы.
Физика – кабинет темный, сумрачно и холодно. Рядом в полной темноте ползают странные твари, кожа их теплая, бьется вместе с кровью внутри жизнь, они проскальзывают в каких-то миллиметрах от меня, я чувствую лишь движение воздуха. Нестерпимо хочется дотронуться до них, поймать, и вместе с тем при одной лишь мысли появляется панический страх.
– Дмитрий Андреев! Не спать!
Никто и не спит, я только сижу, закрыв глаза, а рядом, в миллиметрах от меня – одноклассницы. А у училки торчат соски, точно!
На пятом уроке поем еврейскую песенку, выстроившись каждый у своей парты, «Авени шалом алейхем, авени шалом алейхем, шалом, шалом, шалом алейхем», на радость учителю по русскому и литературе Анатолию Соломоновичу. У него гноятся глаза, и непослушные еврейские кудри торчат во все стороны, учебник литературы замещен Библией, как же иначе, нет иной Книги.
В свое время я ходил к нему на факультативные занятия по субботам. Вместо правил русского языка мы учили псалмы. Однажды к нам на урок пришли баптисты, и я, как наиболее способный ученик, должен был задать вопрос. Я не растерялся и, поднявшись со стула, в искренней озабоченности спросил:
– Вы ведь не станете отрицать, что инопланетяне существуют? – было преддверием моего вопроса.
Мне закивали немного недоуменно.
– И Бог создал нас и их по образу и подобию Своему?
Мне опять кивнули.
– Тогда объясните, почему мы так не похожи?!
Баптисты так и не нашли, что мне ответить, но подарили книжку Кристины Рой. Мой вопрос был признан лучшим.
Шестым уроком у нас физра. Бежим по вытаявшим собачьим следам два километра на время. Проклинаю все: и себя, и прокуренные легкие. Отхаркиваю слизь с прожилками темной крови. Я прихожу третьим, но на финише поскальзываюсь и падаю в грязь.
Я заскочил домой, только чтобы бросить сумку с тетрадями. Затем тут же помчался к Дане. Так было заранее оговорено.
– Куда пойдем?
– Давай просто погуляем…
Гуляем.
– Дима, расскажи мне что-нибудь…
– Что?
– Что-нибудь…
– Сказку?
– Быть может, и сказку…
– Как дед насрал в коляску?
– Дурак!
Я смеюсь, но все равно начинаю рассказывать. Про свое детство. Про то, как проснулся от солнца. Очень давно, много лет назад. Проснулся лишь по одной причине, мне хотелось проснуться… Может быть, меня разбудила своим мурлыканием кошка, та самая кошка, с мордочкой мартышки и кривым хвостом, что совсем недавно котенком лакала молоко под моей ладонью, приседая от ласки. А теперь щурится от солнца, разрывающего грезы и сны на светлые кусочки дня. Я маленький мальчик. Меня зовут Дима. Здравствуй, день.
На лице моей бабушки не счесть морщин. Не счесть лет прожитых. Шлепаю босиком из спальни наперегонки с кошкой на запах готовящегося завтрака.
– Бабуль, с добрым утром! – хватаю за руку, теплую, мягкую, целую подставленную щеку. Бурлит, грохочет крышкой кастрюлька, стреляет масло на сковороде. В окне в зеленых липах прыгают с ветки на ветку и щебечут воробьи. Гуляют по подоконнику голуби.
Вдруг становится грустно. Я забираюсь с ногами на стул и смотрю с мольбой.
– Чего ты, Дима?
Губы дрожат, шмыгаю носом.
Бабушка ставит передо мною чай. Размешивает сахар, и ложка звенит словно маленький колокольчик. Окна выходят на площадь. В утренних лучах она пустынна и спокойна. Лишь подобно китам фыркают неповоротливые «икарусы», распахивая двери на остановке, впуская внутрь сонных и растрепанных пассажиров.
В спальне в поисках носка заглядываю под кровать. Выискивая шорты, смотрю под стулом. Майка на зеркале. Кепка на цветке. Гляжу в окно. Птицы в небе. Канализационные люки и крыши гаражей внизу. Дикие котята играют с тенями и своими хвостами. Я с тоской смотрю на все это. А солнце все выше, и мысли светлее. Внизу под окнами ждет меня мама.
– Дана, как хочется не взрослеть, быть этим маленьким мальчиком.
– Да, в детстве я любила лазать по деревьям и драться с пацанами, мои коленки всегда были изодраны, локти тоже. Помню, как всегда хотелось содрать застывшую корку с раны, сдирала, пила свою кровь. Или наемся зеленых яблок и потом неделями…
– Я не совсем об этом…
– А о чем?
– Я о том, как чувствовалась тогда жизнь. Я о том, как хотелось просыпаться утром, и о том, как не хотелось засыпать. Как каждый день был, что ли, совершенно законченным, весь в себе. Каждое утро просыпался в новом удивительном и теплом мире…
– Мы всегда приписываем детству многое, чего не было.
Мы целуемся. Но при этом мне не отделаться от ощущения, что одновременно меня накрывает светом того самого дня из моего детства, когда я сбежал по лестнице, вылетел из подъезда и обнял маму. Реальное воспоминание или мои фантазии? Не знаю, но иногда мне кажется, что Дана похожа – впрочем, едва заметно – на мою маму. Возможно, я по данному пункту двинутый.
Я вжимаюсь в Дану. Нащупываю ее грудь и прямо через одежду впиваюсь в нее зубами. Чувствую вкус молока. Орущий до посинения ребенок во мне замолкает. По венам тепло. В груди счастье.
– Мама, я люблю тебя!
– Что?!
– Дана, я люблю тебя!
Я точно двинутый. Точно что-то там по Фрейду!
Я как-то странно гулял с Даной. Все больше по каким-то подворотням. Прогуливаться с ней на Манто мне было тягостно. Все норовил выдернуть из ее руки свою руку. Мне кажется, что я не хотел, чтобы нас видели вместе. Почему, я сам не знаю.
Когда уже темнело, провожал ее до подъезда, и там мы целовались. Жевались. Сладостно. Теряя ощущения времени и пространства. Когда приходил в себя, я был уже почти у собственного дома. Веют сквозняки, моя ширинка неизменно расстегнута.
Нет, я уверен, что я был счастливым ребенком. Мне помнится, несмотря ни на что, чувство нежности, теперь превратившееся в уксусную кислоту: пью маленькими глотками – морщусь вначале, потом выворачивает наизнанку.
Фотография: мама и папа молодые, целуются на балконе, на линии горизонта, прически у них странные, советские, но у отца уже видна пусть маленькая, но проплешина, мама закрыла глаза, фотограф, быть может, тоже выпивший, смеется и улюлюкает, а им на все посрать.
Разглядывая свои голые ноги в 2:34 ночи, я поражаюсь, насколько мы с отцом все же похожи.
Ноги кривые, тонкие, волосатые. Такие ноги любят женщины. Мать смеялась нам вдогонку, находя сходство в наших походках и в том, как не заправлены сзади рубашки.
Отец, часто отправляясь по рюмочным, не противясь моему присутствию рядом, говорил, быть может, чересчур громко, чтоб девушкам, идущим впереди, обязательно что-нибудь да слышалось:
– Как тебе эти ножки, сын?
– Ничего! – отвечал я, довольный.
– А по-моему, немного угловаты.
Его оценки смягчались на обратном пути. Раскрасневшийся жизнерадостный отец цеплял женщин, что за тридцать, говорил:
– Привет. Как дела, милая?
Они отвечали:
– Замечательно, милый, – улыбались и отыскивали для меня конфеты.
Я спрашивал:
– Ты знаешь их?
– Нет, – отвечал и, довольный, шел дальше.
Мы дарили маме макароны и по-партизански переглядывались.
После, взрослея, с друзьями и в одиночестве, я улыбался девушкам, говорил в юной нетрезвости:
– Как дела, милая?
Не отвечали. Шли, виляя незрелыми бедрами на костлявых ногах. Сказочно.
А на других фотографиях утро. Мать курит. На моей спине спит сиамская кошка. Отца нет. Он просто за кадром. Он фотографирует. Да-да, вот его тень, падающая от солнечного света в спину, тень на моей кровати, прикасающаяся к вылезшей из-под одеяла голой пятке.