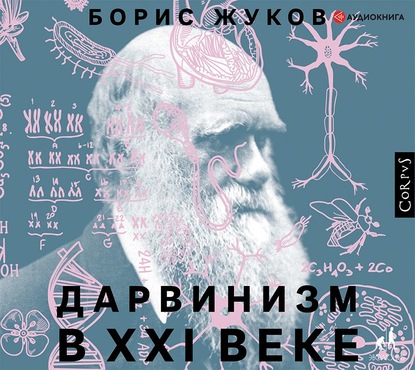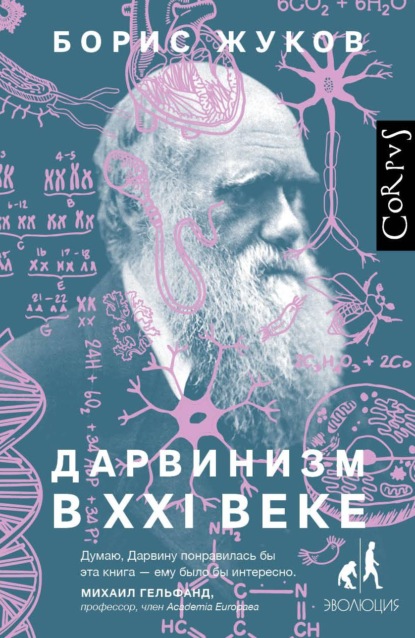
Полная версия
Дарвинизм в XXI веке

На этот вопрос ламаркисты нашли ответ довольно быстро: мол, грубая разовая травма не может служить моделью мягкого, но постоянного давления среды на организм. Правда, оставалось непонятным, как организм отличает одно от другого и где проводит границу. Ведь многие виды имеют приспособления именно к быстрым, сильно травмирующим воздействиям – взять хотя бы знаменитую способность ящериц восстанавливать утраченный хвост. Но еще хуже было с примерами наследования приобретенных признаков. Наиболее авторитетный идеолог ламаркизма, чрезвычайно популярный в ту пору философ Герберт Спенсер вынужден был привести в качестве таковых наследственный сифилис и телегонию – поверье заводчиков лошадей и собак, что если самка спаривалась в течение жизни с разными самцами, то у потомства от более поздних отцов могут обнаруживаться черты предыдущих. Но у самого этого феномена было туго с примерами: “гадюки семибатюшные” обитали только в проклятиях и анекдотах. Впрочем, как мы помним из главы “Отбор в натуре”, с примерами действия естественного отбора в те времена дело обстояло не лучше.
К концу XIX века представления о возможности наследования приобретенных признаков по-прежнему преобладали, но уже не казались само собой разумеющимися: спор двух концепций был перенесен на поле эксперимента. Поисками заветного феномена азартно занялось множество ученых в разных странах мира. Они использовали разные объекты и разные признаки, но схема их работ обычно была одной и той же: берем некий фактор, воздействуем им на подопытные организмы (желательно на молодые, еще не закончившие свое формирование, а еще лучше – на семена, проростки, икру, личинок и тому подобные стадии) и убеждаемся, что их индивидуальные признаки смещаются в ту же сторону, в какую под действием данного фактора эволюционировали близкие им виды в природе.
Например, целая школа французских ботаников во главе с Гастоном Боннье много лет проводила опыты с переносом десятков видов растений с равнин в альпийские условия – исправно убеждаясь, что уже в первом поколении черты таких растений изменяются в сторону родственных им горных видов. Русский ученый Владимир Шманкевич, увеличивая концентрацию соли в воде, где развивались личинки рачка Artemia salina (хорошо знакомого аквариумистам в качестве корма для рыбок), демонстрировал, что у выросших в таких условиях рачков форма хвостового членика и число щетинок на хвосте соответствовали аналогичным признакам вида A. muhlhausenii, в природе живущего в более соленой воде. Если же вовсе убрать из воды соль, A. salina приобретал сходство (правда, по другим признакам) с пресноводным рачком Branchipus stagnalis. Другие ученые столь же убедительно показывали, что мыши, с рождения содержавшиеся на холоде, имели более короткие уши и хвосты, чем те, что росли в тепле, – что полностью соответствует биогеографическому правилу Аллена о различиях между южными и северными формами одного вида. Или что у головастиков, которых растили на мясной пище, кишечник оказывался короче, чем у головастиков того же вида, питавшихся растениями (как известно, для переваривания растительной пищи требуется более длинный кишечник). Работ такого рода было опубликовано множество, но все они ровным счетом ничего не доказывали: с таким же успехом существование хамелеона можно было бы считать доказательством того, что наши обычные ящерицы когда-то умели менять цвет покровов по своему усмотрению.
Кроме того, эти опыты имели и еще одну общую слабость: в них было очень трудно отделить то, что организм унаследовал, от того, что самостоятельно приобрел в ходе собственной жизни. Допустим, мы вслед за Боннье и его сотрудниками пересадили сеянец хлопушки[83] с равнины на высоту две с лишним тысячи метров, и она выросла мелкой и суховатой, как родственный горный вид. Мы собрали с нее семена и высадили… где? Если в горах – то да, из них вырастут мелкие и жесткие растения. Но как узнать, унаследовали ли они эти качества от “натурализовавшихся” в горах родителей или самостоятельно адаптировались к горному климату – так же, как это сделали их родители? Если же мы высадим их на равнине, из них вырастут обычные кустики хлопушки. И опять непонятно: то ли они не унаследовали родительских адаптаций – то ли успели адаптироваться обратно, к исходному состоянию?

В первые годы ХХ века появилась – и тут же стала чрезвычайно модной – генетика. Это заметно ослабило позиции ламаркизма: существование каких-то автономных носителей наследственных качеств плохо увязывалось с представлением о неограниченной пластичности организма по отношению к факторам внешней среды. Вдобавок загадочные гены вели себя так, как будто никаких внешних воздействий нет вовсе.
Идея наследования приобретенных признаков по-прежнему насчитывала немало именитых сторонников (правда, и решительных противников теперь было не меньше – в основном из числа новоявленных генетиков), но она все меньше привлекала научную молодежь. Тем временем успехи экспериментальной биологии сделали возможной пересадку половых желез от одного животного другому с последующим получением от таких животных потомства. Подобные опыты были проделаны на морских свинках, курах, шелкопряде – и ни в одном из них не было найдено никаких следов влияния организма-реципиента на донорские половые клетки: развившиеся из них особи несли признаки только животного-донора. Это выглядело куда убедительней вознесенных в горы растений и подсоленных рачков. И хотя в 1907 году директор берлинского Анатомического и биологического института Оскар Гертвиг предрекал, что в конце концов именно ламарковский эволюционный механизм окажется верным, звезда еще недавно общепринятой теории явно клонилась к закату. Однако даже к середине 1920-х годов ламаркизм все еще оставался респектабельной научной гипотезой.
Продолжались и попытки найти-таки заветный эффект – по своей длительности, массовости и настойчивости сравнимые уже разве что с поисками философского камня. Искали ученые-одиночки и целые научные школы, искали корифеи и дилетанты, искали разными методами и на разных объектах. В истории этой погони за призраком случалисьи настоящие трагедии[84].
Одна из последних широко известных попыток доказать наследование приобретенных признаков косвенно связана с именем знаменитого русского физиолога Ивана Павлова. В 1924 году один из его сотрудников – Николай Студенцов опубликовал результаты оригинального исследования: он вырабатывал у мышей условные рефлексы, скрещивал обученных мышей между собой и обучал их потомство. И выходило, что каждому поколению мышей для выработки рефлекса требовалось меньше сочетаний стимула и подкрепления, чем предыдущему. Этот результат трудно было истолковать иначе, нежели “по Ламарку”. Комментируя работу Студенцова, Павлов предположил, что таким манером условный рефлекс может в конце концов стать безусловным.
Однако после резких возражений видных генетиков (прежде всего Николая Кольцова) Павлов, известный своей придирчивостью к достоверности результатов, поручил другому сотруднику, Евгению Ганике, повторить опыты Студенцова, по возможности исключив альтернативные объяснения. Ганике сконструировал специальную установку, в которой мыши обучались автоматически, без участия экспериментатора. И “эффект Студенцова” как рукой сняло – мышам с 25 поколениями ученых предков на выработку навыка требовалось столько же времени, сколько мышам, предков которых ничему не учили. (Скорее всего, полученные Студенцовым результаты объяснялись тем, что в эксперименте обучались не только мыши, но и сам молодой исследователь – это была его первая самостоятельная работа.) После этого Павлов публично попросил не причислять его в дальнейшем к авторам, признающим наследование приобретенных признаков.
К началу второй трети ХХ века ламаркизм вынужден был оставить основные поля эволюционных битв – зоологию и ботанику, – но все еще держался в микробиологии. Стремительная адаптация микроорганизмов чуть ли не к любым воздействиям плохо совмещалась с образом медленной дарвиновской эволюции, невольно наталкивая на мысль, что уж микробы-то точно приспосабливаются “по Ламарку”. Поиски “направленных мутаций” надолго прервались только после знаменитого опыта Макса Дельбрюка и Сальвадора Лурии, поставленного в 1943 году и вошедшего в историю науки под именем “флуктуационный тест”.

Объектом их эксперимента была кишечная палочка Escherichia coli, а фактором, к которому ей надлежало приспособиться, – фаг (то есть паразитирующий на бактерии вирус) Т1. В норме фаг цепляется к поверхности бактериальной клетки, впрыскивает внутрь нее свою ДНК, та встраивается в геном хозяина и многократно копируется, одновременно заставляя зараженную клетку в лихорадочном темпе синтезировать вирусные белки. В конце концов клетка погибает и лопается, и в среду вываливается множество новеньких, готовых к заражению фаговых частиц. Процесс развивается лавинообразно, но, если бактерий достаточно много, рано или поздно среди них находится клетка, невосприимчивая к фагу. Биохимические механизмы устойчивости могут быть разными, но результат один: резистентная клетка преспокойно растет и размножается на питательной среде с фагом, образуя на поверхности различимую невооруженным глазом колонию.
Дельбрюк и Лурия рассуждали так: если адаптивные изменения в геноме бактерии вызывает именно воздействие фага, то происходить они могут только после встречи бактерии и фага. Значит, если размножить бактериальный штамм во многих пробирках, а потом из каждой сделать посев на среду с фагом, то в каждой чашке Петри должно вырасти примерно одинаковое число колоний устойчивых бактерий – где-то больше, где-то меньше, но порядок величины будет один: ведь все они встретились с фагом одновременно.
Если же мутации, придающие бактерии устойчивость, возникают случайно, то этот процесс никак не зависит от присутствия фага. Допустим, в одной пробирке нужная мутация произошла десять поколений назад, в другой – пять, а в третьей – только что. Все это время бактерии – в том числе и носители мутации – продолжали размножаться[85]. Тогда в посеве из первой пробирки устойчивых клеток окажется больше тысячи, из второй – 32, а из третьей – одна-единственная. Строгие расчеты показывают: если мутации происходят направленно, то дисперсия (мера отклонения от среднего) числа устойчивых клеток должна равняться их среднему числу. Если же они случайны, дисперсия будет многократно превышать среднее.
Именно так и получилось в эксперименте Дельбрюка и Лурии: в каждом конкретном опыте дисперсия в разы превышала среднюю величину. Позднее этот эксперимент был многократно повторен с разными фагами, а также антибиотиками и другими повреждающими агентами. Результаты всякий раз были однозначны: бактерии приспосабливались по Дарвину[86].
Специально для тех, кто пытался защититься от этого опыта непониманием его математической стороны, супруги Джошуа и Эстер Ледерберг спустя несколько лет показали то же самое, что называется, “на пальцах”. Они высевали множество бактерий на обычной питательной среде, а затем специальной бархатной подушечкой переносили отпечаток всех колоний на среду с фагом. Если там что-то вырастало (а рано или поздно такое случалось), то можно было точно определить, из какой колонии взялись устойчивые бактерии. И всякий раз оказывалось, что вся эта исходная колония тоже устойчива к фагу – с которым никогда в жизни не сталкивалась!
Это была одна из последних битв. Считаные годы спустя ученик Дельбрюка Джеймс Уотсон и его соавтор Фрэнсис Крик предложили свою знаменитую “двойную спираль” – и ламаркизм оказался оттеснен на задворки науки, став уделом чудаков и фанатиков, вроде изобретателей вечного двигателя[87]. Три четверти века отчаянных попыток зафиксировать “очевидное” и строго доказать “общеизвестное” закончились ничем. Но как мог Вейсман быть так уверен в этом, ничего не зная даже о существовании генов? Неужели его убедили бесхвостые мыши?

На самом деле, приступая к опыту с хвостами, Вейсман уже знал ответ. Он рассуждал так: допустим, где-то в теле произошло что-то полезное – мышцы стали толще, мозг заучил новый навык или шкура повысила лохматость. Но все эти ткани умрут вместе с самим организмом. Особи следующего поколения разовьются только из половых клеток. Как же те узнáют и запомнят эти полезные изменения, произошедшие совсем не с ними? Разве сапог, оставивший след на снегу, будет меняться по мере таяния этого следа?
Сегодня мы знаем, что постулированное Вейсманом разделение проходит не между разными тканями, а внутри каждой клетки. Вейсмановские “зародышевая плазма” и “сома” – это генотип и фенотип, генетическая программа построения организма и сам построенный по ней организм. Они есть и у одноклеточных, и у безъядерных, и даже у вирусов. И для всех этих существ остается справедливой главная мысль Вейсмана: информация идет только от генов к внешним признакам, но не наоборот. Что бы ни происходило с экземплярами изданной книги, это не может повлиять на авторскую рукопись. Ее изменяет только сам автор – естественный отбор.
Казалось, вопрос был решен. Однако тень Ламарка упорно не дает покоя некоторым биологам: в последние десятилетия в научной литературе снова регулярно появляются работы, авторы которых стремятся не мытьем, так катаньем доказать факт наследования (или хоть какого-то влияния на потомство) приобретенных признаков либо хотя бы предложить теоретическую схему, позволяющую совместить этот эффект с нашими сегодняшними знаниями об устройстве живых систем.
Одним из самых известных рецидивов ламаркизма стала вышедшая в 1998 году книга австралийских иммунологов Эдварда Стила, Робина Линдли и Роберта Блэндена Lamarck’s signature (в русском переводе – “Что, если Ламарк прав?”). Книга была посвящена в основном механизму формирования приобретенного иммунитета и прежде всего – гипермутагенезу генов антител в В-лимфоцитах (см. главу “Неотвратимая случайность”). Однако амбиции авторов выходили далеко за пределы проблем иммунологии. В книге утверждалось, что изменения, возникшие в генах антител у В-лимфоцитов под действием определенного антигена, обнаруживаются затем в тех же генах у потомков данного животного, никогда не сталкивавшихся с этим антигеном, то есть что приобретенный иммунитет хотя бы в какой-то мере наследуется. Авторы предлагали и механизм такого наследования: матричные РНК (см. главу “Атомы наследственности”), снимаемые с измененных генов в лимфоцитах, проникают затем в половые клетки, и там путем обратной транскрипции (то есть синтеза ДНК на матрице РНК) с них снимаются ДНК-копии, встраивающиеся затем в геном половой клетки – примерно так же, как это делают в любых заражаемых клетках РНК-вирусы. А в последней главе авторы утверждали, что наследоваться может не только приобретенный иммунитет, но и другие приобретенные признаки. Правда, примеры этого они черпали в основном из старой (и порой не очень достоверной) неоламаркистской литературы либо откровенно притягивали за уши эффекты, имеющие совсем иную природу (например, феномен транспозонов – генов, способных “перепрыгивать” с одного места в хромосоме на другое или даже в другую хромосому). А их попытки объяснить, какую роль тут могут играть процессы, сходные с формированием специфических антител, сводились в основном к туманным рассуждениям, вроде того, что “в живом мире уникальные процессы и функции редки” и “если какой-нибудь феномен обнаружен в одной живой системе, рано или поздно его выявят и в других клетках, тканях или организмах”.
Книга наделала много шума, однако довольно быстро выяснилось, что в процессе гипермутагенеза обратной транскрипции не происходит – случайные изменения вносятся не в матричные РНК, а непосредственно в ДНК, в определенные участки генов, кодирующих антитела. Не удалось найти и постулированного авторами переноса измененных мРНК из лимфоцитов в половые клетки с последующим встраиванием ДНК-копий первых в геном вторых. Да и само “наследование приобретенного иммунитета” другим исследователям обнаружить почему-то не удалось. Что же касается главного идеолога “иммунологического ламаркизма” – Эдварда Стила, то сегодня его имя можно найти среди авторов статьи, на полном серьезе утверждающей инопланетное происхождение головоногих моллюсков…
Эпигенетика и эпигонство, или Злоприобретенные признаки
Другая разновидность современного неоламаркизма связывает свои надежды с так называемым эпигенетическим наследованием. Ссылки на работы, в которых наблюдался этот эффект, можно найти у многих неоламаркистов конца ХХ века (в частности, в упомянутой выше книге Стила и его соавторов), но “звездный час” этой идеи пробил совсем недавно. Рубежом стал 2014 год: количество работ в этой области, превысив критическую массу, сокрушило теоретические табу. Если еще совсем недавно ученые, обсуждая результаты исследований в этом направлении, старались избегать слов “наследование приобретенных признаков” (по крайней мере, в профессиональных изданиях), то сейчас эти слова стали чуть ли не знаменем нового направления. Победный клич “Ламарк все-таки был прав!” пронесся не только по блогам и телеканалам, но и по страницам вполне респектабельных научных журналов. Изучение того, как воздействия, перенесенные отцами и матерями, сказываются на детях, внуках и правнуках, буквально на глазах превратилось из сомнительной маргинальной темы в одно из самых модных и респектабельных направлений исследований.
Напомним вкратце, о чем идет речь. Как мы уже знаем, наследственные признаки не только организма в целом, но и каждой его клетки определяются генами. При этом все клетки одного организма содержат одинаковый набор генов (если не считать соматических мутаций – случайных единичных ошибок, неизбежно возникающих при многократном делении клеток, перед каждым из которых нужно скопировать весь геном). Те огромные различия в строении и функциях разных клеток, которые мы наблюдаем, возникают из-за различий в интенсивности работы генов – то есть считывания с них белка. В каждом типе клеток с одних генов матричные РНК снимаются чаще, с других – реже, а с третьих не снимаются совсем. Некоторые гены работают только на определенном (иногда совсем коротком) этапе эмбрионального развития или только при наступлении особых условий – с которыми их конкретный обладатель может никогда в жизни не столкнуться.
Естественно, ученые попытались выяснить механизмы, регулирующие эту активность. Таких механизмов оказалось много, они сложным образом взаимодействуют друг с другом. В частности, еще в 1970-х годах было обнаружено, что активность генов сильно зависит от навешенных на них химических меток. Например, есть ферменты, которые могут присоединять к цитозину (одному из азотистых оснований, служащих буквами генетического кода) метильную группу. Чем больше цитозинов в конкретном гене метилировано, тем ниже его активность. Впрочем, метильные метки могут быть и сняты так же, как навешены – специальными ферментами. Еще одна группа ферментов приделывает разные молекулярные добавки к гистонам – белкам, с которыми связана ДНК в ядре клетки. Эти модификации также влияют на интенсивность работы тех генов, с которыми связана данная белковая молекула. Известны и иные механизмы такого рода. Все они отличаются тем, что никак не меняют “текст” гена и химическую природу считываемого с него белка, но заметно влияют на интенсивность этого считывания – а значит, и на концентрацию данного белка в клетке, ткани или организме в целом.
Откуда фермент знает, какой участок ДНК и когда именно ему нужно метилировать или деметилировать – пока не очень понятно. Зато сравнительно недавно удалось выяснить, что некоторые из эпигенетических меток могут при удвоении ДНК воспроизводиться на дочерней цепочке. Далее, как и следовало ожидать, оказалось, что благодаря этому распределение меток, имевшее место в материнской клетке, может быть унаследовано (хотя бы отчасти) дочерними. Наконец, была открыта и возможность передачи эпигенетических особенностей потомству, появляющемуся на свет в результате полового размножения. А поскольку, как уже говорилось, эпигенетические метки подвержены внешним воздействиям (и, по идее, служат средством обратной связи, благодаря которой режим работы гена может меняться в соответствии с текущими задачами), это вполне естественно рождало надежду найти нечто, возникшее у организма в ходе его жизни и затем переданное потомству. Проще говоря – найти наследование приобретенных признаков. Такая возможность привлекла многих исследователей – и в какой-то момент победные сообщения об открытии всё новых и новых примеров эпигенетического наследования заполонили научную прессу.
Как ни странно, в этом хоре ликующих голосов практически никто не вспоминал, что сам феномен подобного наследования известен в биологии вот уже второе столетие. Еще в 1913 году известный в ту пору немецкий биолог Виктор Йоллос обнаружил, что морфологические изменения, возникающие у инфузорий-туфелек при раздражении, не исчезают при делении клетки и сохраняются, таким образом, в течение нескольких поколений (если только инфузория не переходит к половому размножению). Инфузории, конечно, объект специфический, и с точки зрения наших сегодняшних знаний об организации их генетического аппарата этот эффект кажется не столь уж удивительным[88]. Однако вскоре аналогичные явления были обнаружены и у ряда многоклеточных организмов с “нормальным” половым размножением и “правильной” генетикой. Так, например, колорадские жуки, проходившие стадию куколки при необычно высокой температуре, отличаются характерными изменениями окраски. Оказалось, что эти изменения сохраняются (постепенно слабея) у нескольких поколений их потомков, проходивших фазу куколки уже при обычных температурах.
Все это очень сильно напоминало обычные индивидуальные модификации, столь любимые биологией XIX века, – вспомним пересаженные растения Боннье, солоноводных рачков Шманкевича и прочие примеры определенной изменчивости. Однако про обычные модификации к тому времени уже было известно, что они не наследуются. Новый же тип модификаций отличался способностью передаваться (хотя и неустойчиво, с постепенным затуханием) нескольким следующим поколениям. С легкой руки Йоллоса такие изменения получили название длительных модификаций (Dauermodifikationen).
Длительным модификациям не повезло: их открытие пришлось на время разочарования биологов в неоламаркизме и бурного расцвета классической генетики, быстро превращавшейся в царицу биологии. В ту биологическую картину мира, которая формировалась на основе идей генетики, длительные модификации (и вообще негенетическое наследование) вписывались с большим скрипом. К тому же эффект был довольно редким и плохо воспроизводился. Но главное – у тогдашней биологии практически не было методов, позволяющих исследовать механизмы этого явления. Феномен исправно упоминался в солидных учебниках и справочной литературе (как правило, мелким шрифтом или в примечаниях), но почти не исследовался и вообще находился где-то на периферии поля зрения науки. А когда в конце ХХ века были открыты эпигенетические механизмы регуляции активности генов и возможность их наследования, о феномене длительных модификаций уже мало кто помнил: современные молодые ученые редко интересуются публикациями вековой давности, тем более такими, которые в последние десятилетия почти никто не цитировал.
Впрочем, вопрос о времени и авторстве открытия эпигенетического наследования и даже об эквивалентности йоллосовских длительных модификаций изучаемым ныне эпигенетическим феноменам – это, в конце концов, лишь вопрос истории науки. Если не придираться к деталям, то все примерно так и должно быть: сто лет назад открыли интересный феномен, никто его с тех пор не отрицал, но не хватало знаний для его объяснения, а главное – методов для изучения. Теперь такие знания и методы появились – и изучение этого класса явлений идет полным ходом. А уж что за сто лет подзабылось имя опередившего свою эпоху первооткрывателя – обидно, конечно, но понятно и простительно.
Куда больше вопросов и недоумения вызывает не историческая, а содержательная сторона дела. Если непредвзято взглянуть, с одной стороны, на фактические сведения об эпигенетическом наследовании, а с другой – на их теоретическую трактовку энтузиастами (и особенно на их предполагаемую эволюционную роль), испытываешь глубокое удивление и даже некоторую неловкость, как при наблюдении попыток запрячь в карету морского конька.
Мы привыкли думать, что любые модификации (как и вообще любые реакции организма на внешние изменения) в той или иной степени адаптивны. Все концепции, приписывающие модификациям какое бы то ни было эволюционное значение, основаны именно на этом и подразумевают такое свойство модификаций как само собой разумеющееся. Адаптивными “по умолчанию” считаются и эпигенетические изменения, в том числе и наследуемые.