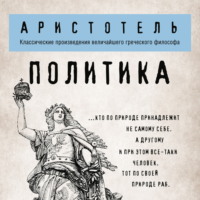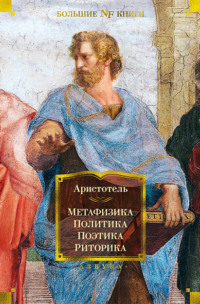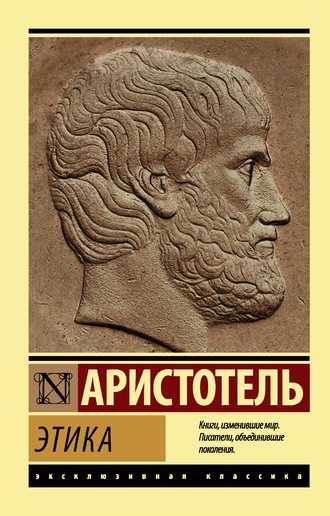
Полная версия
Этика
Все это соединено в действиях, сообразных с добродетелью, а они-то или одни из них – наиболее высокие, и суть блаженство, как мы утверждаем. Однако кажется, что блаженство все же нуждается, как мы сказали, и во внешних благах, ибо невозможно или трудно человеку неимущему делать прекрасные дела, и многое может быть осуществлено лишь при помощи, так сказать, инструментов, то есть друзей, богатства и политического влияния: при отсутствии известных условий, как например, благородного происхождения, хороших детей, красоты, блаженство неполно; тот, конечно, не очень пригоден к блаженству, у кого вид непристойный, или кто неблагородного происхождения, или холост, или бездетен, а еще менее пригоден тот, дети коего и друзья или совсем дурны, или же если они, бывши хорошими, умерли. Итак, кажется, что блаженство нуждается, как мы сказали, и в подобной тщете; отсюда и возникает то, что одни приравнивают блаженство к внешним условиям счастья, а другие – к добродетели.
§ 10. Отсюда является затруднение объяснить, как возникает блаженство: можно ли ему научиться, или приобрести привычкой, или другим каким путем, или же оно дается какой-то божественной судьбой, или даже просто случаем. Конечно, если боги наделили чем-либо человека, то следует и блаженство считать даром богов, и тем более, что оно есть лучшее, чем владеют люди. Этот вопрос лучше рассмотреть в другом месте, но если бы даже блаженство не было даром богов, а приобретено было добродетелью, или обучением, или упражнением, то все же оно останется чем-то божественным. Ибо кажется, что цель и награда добродетели должны быть чем-то прекрасным, божественным и блаженным. В таком случае блаженство есть цель, общая всем, ибо все, не совсем лишенные добродетелей, в состоянии достичь его известным обучением и трудом. И если это справедливо, то лучше стать блаженными этим путем, чем случаем, а весьма вероятно, что оно справедливо, если только справедливо, что все в природе наилучшим образом приспособлено. То же самое можно сказать про создания искусства и всякой вообще причины, а тем более высшей причины; было бы ошибочно предоставить все лучшее и величайшее случаю; это явствует и из определения исследуемого нами объекта: ведь сказано, что блаженство состоит в известного рода деятельности, сообразной с добродетелью. Что касается остальных благ, то они частью необходимы, частью же играют роль пособий, полезностей и средств. Все это согласно с тем, что сказано в начале: там мы высказали мысль, что цель политики – наиболее высокая; ее главная забота состоит в том, чтобы придать гражданам известного рода хорошие качества и сделать их людьми, поступающими прекрасно; поэтому-то мы и не называем ни быка, ни лошадь, ни другое какое-либо животное блаженным, ибо ни одно из них не в состоянии принять участие в подобной деятельности. По этой же самой причине и ребенок не блажен, потому что он, в силу своего возраста, не может действовать подобным образом, а если же мы и назовем его блаженным, то лишь в надежде на будущее; поэтому необходима, как мы сказали, совершенная добродетель и совершенная жизнь, а так как жизнь подвержена многим изменениям и разнообразным случайностям, то может произойти, что на того, кому очень хорошо жилось, под старость обрушатся несчастья, как например, рассказывают в героических песнях про Приама; человека, испытавшего подобные бедствия и умершего в несчастии, никто не назовет счастливым.
§ 11. А может быть, вообще ни одного человека не следует считать счастливым, пока он живет, и должно, по выражению Солона, смотреть на конец. Но если даже и так, то спрашивается: может ли быть счастливым тот, кто умер? Не совершенно ли это нелепо, особенно для нас, полагающих блаженство в деятельности? Но даже если бы мы и не называли умершего счастливым и если Солон не это хотел сказать, а лишь то, что только тогда можно безошибочно назвать человека блаженным, когда он находится вне всяких несчастий и бедствий, даже и в этом случае остается некоторое затруднение. Ведь, кажется, и для умершего есть своего рода зло и благо, как например, почести или бесчестие, счастье или несчастье детей или вообще потомства, точно так же, как для человека живого, но не чувствующего [например, спящего]. Но вот и еще затруднение: человек, до старости счастливо живший и в счастье умерший, может подвергнуться разным превратностям судьбы по отношению к потомкам: одни из них могут быть людьми хорошими и получить в удел жизнь по заслугам, другие – наоборот; ясно, что их судьба во многом может отличаться от судьбы родителей; нелепо в таком случае и умершего подвергать превратностям судьбы и делать его то счастливым, то вновь несчастным; с другой стороны, утверждать, что нет никакой связи и ни в какое время между судьбой родителей и их потомков – также нелепо. Но вернемся к первому затруднению; может быть, оно уяснит нам и настоящее [затруднение]. Если же должно взирать на конец и считать каждого блаженным не постольку, поскольку он теперь блажен, а поскольку он ранее был таким, то как же избежать нелепости, что человеку счастливому в настоящее время нельзя приписать качества принадлежащего ему, не впадая в ошибку, и это только вследствие нехотения назвать счастливыми живущих, памятуя о превратностях судьбы и считая блаженство чем-то твердым и неизменным, в то время как одни и те же люди подвержены круговороту судьбы. Ясно, что если мы будем следовать за судьбами, то нам часто придется одного и того же называть то счастливым, то опять несчастным, и мы сделаем из блаженства своего рода хамелеона и нечто, не имеющее прочного основания.
Или, может быть, совершенно неверно сообразовать наше суждение с изменениями судьбы: ведь не в них состоит счастье или несчастье; они лишь нужны, как мы сказали, для человеческой жизни, в то время как блаженством управляет деятельность, сообразная с добродетелью, злополучием же – противоположное. Только что высказанное затруднение свидетельствует об истинности нашего определения, ибо ни в каком другом деле не проявляется настолько человеческая твердость и постоянство, как в действиях, сообразных с добродетелью; она нам кажется даже постояннее, чем науки; из подобных действий те ценятся выше всего, которые наиболее постоянны, ибо в них по преимуществу проходит жизнь блаженных людей. В этом, кажется, лежит причина, почему они [то есть подобные действия] не забываются. Итак, блаженный будет обладать искомым качеством, и он будет таковым в течение всей жизни, ибо он всегда или, по крайней мере, по большей части будет действовать и мыслить сообразно с добродетелью, а превратности судьбы отлично будет переносить, как вообще человек во всех отношениях хороший, про которого можно сказать, что он «совершенный и безупречный». Человеческая жизнь полна различных, частью больших, частью малых случайностей. Ясно, что незначительные счастливые случайности и также, наоборот, незначительные беды не имеют важности в жизни; зато большие и частые счастливые случайности делают жизнь более блаженной (так как они сами по себе украшают жизнь, а кроме того, ими можно воспользоваться для хороших и добрых дел), напротив того, великие бедствия уменьшают и омрачают блаженство, ибо они создают печаль и препятствуют многим действиям. Но и в таких обстоятельствах может проявиться прекрасная душа, как скоро человек станет бодро переносить великие и частые бедствия, и не вследствие равнодушного характера, а в силу благородства и великодушия. Если жизнь зависит от деятельности, как мы сказали, то ни один блаженный не может стать несчастным, ибо никогда не станет делать ненавистное и дурное.
Мы думаем, что тот истинно хороший и благомыслящий человек, кто с некоторым достоинством переносит превратности судьбы и всегда при известных данных обстоятельствах поступает наилучшим образом, подобно хорошему полководцу, который с предоставленным ему войском достигает наибольших военных успехов, или подобно хорошему сапожнику, который из данной ему кожи сошьет наилучшие сапоги; это справедливо и относительно остальных художников и ремесленников. Если это так, то счастливый никогда не может стать несчастным; он не станет и блаженным, если на него обрушатся несчастия Приама, однако все же не будет переменчивым, и нелегко будет лишить его блаженства случайными несчастьями, а разве только великими и часто повторяющимися; но, раз впав в несчастье, он не станет в короткое время вновь счастливым, разве только если ему удастся совершить великие и прекрасные дела в течение долгого и непрерывного времени. Итак, что мешает нам назвать счастливым человека, действующего сообразно с совершенной добродетелью, в достаточной мере наделенного внешними благами и притом действующего не в течение какого-либо срока, а в течение всей жизни? Или же следует прибавить: человека, жившего так и умершего так, ввиду того, что грядущее нам не ясно, а блаженство мы считаем целью во всех отношениях законченной? Если так, то блаженными, и притом блаженными людьми, мы назовем тех, которые имеют или будут иметь указанные качества. Пусть будет достаточно сказанного об этих вопросах. Все же, однако, кажется противоречащим общепринятым мнениям – вовсе не принимать в расчет судьбу потомков и всех друзей. Так как превратности судьбы различаются как количественно, так и качественно, и так как одни из них имеют большее значение, другие – меньшее, то распределение их на группы покажется обширной и даже бесполезной задачей; достаточно будет дать несколько общих точек зрения в крупных чертах. Одни несчастья имеют известное значение и влияние на нашу жизнь, а другие менее важны; то же должно сказать и о всех несчастьях, касающихся наших друзей; но разница в том, обрушится ли несчастье на живущего или на умершего, разница гораздо большая, чем в том случае, когда мы видим ужасы и беззакония в трагедии, или совершающимися в действительности. Должно, значит, принять в расчет и это различие, и еще большее затруднение – причастны ли вообще умершие к счастью или к несчастью. Из того, что сказано, следует, что даже если бы счастье и несчастье касалось хоть сколько-нибудь умерших, то все же лишь немного или незначительно, и притом это участие их или безусловно незначительно, или же таково лишь для них. А если же даже и не так, то все же это участие не настолько велико, чтобы сделать их из счастливых несчастными или же у блаженных отнять блаженство.
Итак, кажется, что благоденствие и бедствия друзей хоть несколько касаются умерших, но, однако, не настолько, чтобы сделать их из счастливых несчастными, или вообще не настолько, чтоб изменить их состояния.
§ 12. Разъяснив это, рассмотрим вопрос, следует ли блаженство относить к предметам, заслуживающим похвалы, или же скорее к предметам, заслуживающим уважения. Ясно, что оно не относится к возможностям. Все, что хвалимо, представляется известным качеством и хвалится по отношению к чему-либо. Справедливого, храброго и вообще хорошего человека и добродетель мы хвалим за их действия и дела, точно так же и сильного или быстрого и так далее мы хвалим за их качества и за то, что они имеют известное отношение к благу и к нравственному совершенству. Ясно это и из похвал, обращаемых к богам: они покажутся смешными в приложении к ним, и это потому, что всякая похвала возникает, как мы сказали, из известного отношения. Если такова природа похвалы, то она не приложима к самым высоким предметам, а им, как кажется, свойственно нечто большее и лучшее, ибо богов мы не хвалим, а почитаем блаженными и счастливейшими, точно так же мы почитаем блаженными и наиболее божественных людей. То же самое можно сказать и о благах. Никто не хвалит блаженства или справедливости, а считают их чем-то божественным и превосходным, чем-то стоящим выше всяких похвал. По этой-то причине и Евдокс справедливо причислил наслаждение к прекраснейшим предметам; он полагал, что оно лучше, чем предметы, заслуживающие похвалы, так как его не хвалят, хотя оно и принадлежит к числу благ; Божество и высшее благо он относил туда же, так как все остальное зависит от них. Похвала же принадлежит добродетели, ибо она делает нас способными ко всему прекрасному; хвалебные же гимны относятся в одинаковой мере как к душевной, так и к физической деятельности. Но рассмотрение этого вопроса скорее относится к науке, исследующей хвалебные гимны [риторике]. Для нас же ясно, что блаженство относится к предметам, заслуживающим уважения, и притом безусловно. Это следует, как кажется, и из того, что блаженство – начало [принцип], ибо к нему мы направляем всю нашу деятельность. Принцип же и причину благ мы называем чем-то божественным и заслуживающим уважения.
§ 13. Если блаженство состоит в душевной деятельности, сообразной с добродетелью, то мы должны исследовать добродетель; может быть, что мы тогда лучше поймем и природу блаженства. Кажется также, что истинный государственный человек более всего заботится о добродетели, ибо он хочет сделать граждан хорошими людьми, повинующимися законам: примером нам могут служить законодатели Крита и Лакедемона и другие, равные им по значению. Если этот вопрос относится к политике, то ясно, что наше рассуждение следует пути, которого мы намеревались держаться. Если мы говорим, что нужно исследовать понятие добродетели, то конечно, мы разумеем человеческую добродетель, ибо ведь мы исследуем благо человеческое и блаженство человеческое; но говоря о человеческой добродетели, мы разумеем не телесную, а душевную: ведь и блаженство мы определили как душевную деятельность. Если это так, то ясно, что политик должен в то же время знать несколько психологию, подобно тому, как тот, кто хочет лечить глаз, должен знать строение всего тела, и притом эти сведения для первого настолько необходимее, насколько политика выше врачебного искусства, поэтому образованные врачи усердно занимаются познанием тела. Итак, и политик должен заняться психологией, и притом заняться ради своего предмета, но настолько, насколько достаточно для исследуемого им объекта, ибо более подробное и внимательное занятие психологией отвлекло бы его только от его непосредственной задачи. Некоторые отделы психологии в достаточной мере изложены в экзотерических лекциях, и ими можно воспользоваться; например, можно заимствовать положение, что одна часть души неразумна, другая же разумна. Для настоящего исследования не имеет значения вопрос, отделимы ли эти части подобно членам тела и подобно всему протяженному, или же они не отделимы, и только мышление разложило их на два понятия, подобно тому, как в круге неотделимы выпуклая от вогнутой стороны линии. Одна часть неразумной души – растительная – обща всем существам: я разумею причину питания и роста; эту душевную способность необходимо принять во всем, что питается, и даже в эмбрионах, но ее же с большим основанием, чем какую-либо иную, должно принять и в существах вполне развитых. Итак, добродетель этой части души обща всем существам, а не специально человеческая. Кажется, что эта часть и способность человеческой души более всего деятельна во время сна; и хороший, и дурной человек менее всего проявляются во сне, почему и говорят, что половина жизни счастливых людей ничем не отличается от жизни несчастных, и это весьма естественно, ибо сон есть бездействие именно той способности души, в силу которой она называется хорошей или дурной; разница только в том случае, когда кое-какие слабые движения достигают все же души, и поэтому сновидения порядочных людей становятся худшими, чем других каких-либо. Но достаточно об этом. Оставим в стороне питательную часть души, так как она не имеет отношения к человеческой добродетели. Кажется, что и еще одна сторона души неразумна, хотя и стоит в известном отношении к разуму. Ведь хвалим же мы в человеке воздержанном и невоздержанном разум и разумную часть души, ибо он побуждает к истине и прекрасному. Но есть в этих людях, как кажется, нечто другое, помимо разума, что борется и противодействует ему. Как члены тела, разбитые параличом, повертываются в левую сторону, когда человек намерен передвинуть их вправо, точно то же происходит и в душе невоздержанных людей, страсти которых влекут их в сторону противоположную [разуму]. Разница только в том, что в теле мы видим это обратное движение, в душе же не видим; тем менее, однако, нужно будет и в душе признать нечто помимо разума, что противодействует ему и идет наперекор. Дальнейшие различия нас здесь не касаются.
Однако, как мы сказали, это нечто причастно разуму, ибо у людей воздержанных оно повинуется разуму, а у людей умеренных и мужественных оно повинуется тем охотнее, что в них все согласуется с разумом. Итак, и неразумная часть души двоякая: растительная, нисколько не причастная разуму, и страстная или, вообще говоря, стремящаяся, причастная, поскольку она повинуется разуму и слушает его: так [мы повинуемся] инстинктивно разуму отца или друзей. Наставления и вообще всякая похвала и хула указывают на то, что неразумная часть души несколько повинуется разуму. Итак, если следует допустить, что и эта часть души причастна разуму, то необходимо признать и разум двояким: с одной стороны, разумом властвующим и владеющим, с другой – повинующимся как бы отеческой власти. Следуя этому различию, нужно разделить и добродетель: одни добродетели мы назовем дианоэтическими [интеллектуальными], другие – этическими [волевыми] добродетелями характера. Мудрость, разумность и благоразумие мы отнесем к дианоэтическим, щедрость и умеренность – к этическим добродетелям. Говоря о характере кого-либо, мы не назовем его мудрым или разумным, а кротким или умеренным, а хвалим мы также и мудрого за приобретенное им качество. Добродетелями вообще мы называем похвальные приобретенные свойства души.
Книга II
[Разделение и определение добродетелей. Оправдание определения на примерах этических добродетелей]
§ 1. Итак, добродетель бывает двоякой: частью дианоэтической, частью этической. Дианоэтическая добродетель возникает и развивается по преимуществу путем обучения, почему и нуждается в опыте и во времени; этическая же слагается путем привычек; от них-то она и получила свое название, так как оно образовано мелким изменением слова «нрав» (εϑος). Отсюда ясно, что ни одна этическая добродетель не дается нам от природы, ибо ни одно качество, данное природой, не может измениться под влиянием привычки, подобно тому как камень, имеющий от природы движение вниз, вряд ли может привыкнуть двигаться вверх, даже если кто-либо и захочет приучить его к тому, бросая его десять тысяч раз вверх; точно так же и огонь не привыкнет гореть вниз, и вообще говоря, ни один предмет не меняет своих естественных качеств под влиянием привычки. Следовательно, добродетели не даются нам от природы и не возникают помимо природы, но мы от природы имеем возможность приобрести их, путем привычек же приобретаем их в совершенстве. Вообще, все, что мы имеем от природы, то мы первоначально получаем лишь в виде возможностей и впоследствии преобразуем их в действительности. Это ясно на ощущениях; ведь не потому, что мы часто пользовались зрением или слухом, возникают в нас соответственные органы ощущений, но, наоборот, мы пользуемся ими, потому что имеем их, а не потому получаем их, что пользовались ими. Также и добродетели приобретаем мы путем предшествующей им деятельности, как вообще все искусства; ибо то, что мы должны делать научившись, этому мы научаемся деятельностью, например, архитектор [научается своему искусству] – строя дома, артист на кифаре – играя на кифаре. Точно так же мы становимся и справедливыми – творя справедливые дела, умеренными – действуя с умеренностью, мужественными поступая мужественно. Подтверждается это явлениями государственной жизни: ведь законодатели делают граждан хорошими путем привычек, и стремление всякого законодателя направлено именно к этому. Те законодатели ошибаются, которые не обращают должного внимания на привычки, и именно этим хорошее государственное устройство отличается от дурного. Далее, тем же самым путем и средствами, которыми возникает всякая добродетель и искусство, оно и гибнет. Игра на кифаре образует как хороших, так и дурных музыкантов; то же и относительно архитекторов и всех остальных, ибо хорошими архитекторами станут те, которые будут хорошо строить дома, дурными – те, которые станут это делать дурно. Если б это было не так, то не нужны были бы учителя и все сразу становились бы хорошими или дурными. То же самое и относительно добродетелей, ибо люди, поступая так, как это принято во взаимных отношениях, становятся частью справедливыми, частью – несправедливыми. Действуя в опасных положениях и привыкнув или испытывать страх, или же быть мужественным, одни становятся мужественными, другие – трусами. Так же дело обстоит и относительно страстей и наклонностей: одни становятся умеренными и кроткими, другие – невоздержанными и гневливыми, благодаря тому, что одни при данных обстоятельствах поступали так, а другие иначе. Одним словом, из одинаковых определенных деятельностей возникают им соответственные [приобретенные] свойства. Поэтому-то следует влиять на характер деятельности, ибо приобретенные свойства души зависят от различия деятельностей. Поэтому немаловажно, приучен ли кто-либо с первой молодости к тому или другому, напротив, это очень важно; от этого зависит все.
§ 2. Так как наша наука не имеет целью теорию [знание], как другие науки (ведь не для того мы рассуждаем, чтобы знать, что такое добродетель, а для того, чтобы стать хорошими людьми: в противном случае наука наша была бы бесполезною), то необходимо рассмотреть все, что связано с деятельностью человека, чтоб определить, как следует поступать, ибо, как мы сказали, от нашей деятельности зависят качества характера, приобретаемые нами. Что касается правила, что в деятельности должно следовать истинному разуму, то оно пригодно как общее положение, и о нем будет говорено позднее, а также и о том, что такое истинный разум и как он относится к другим добродетелям. Однако в том мы заранее должны согласиться, что всякое рассуждение, касающееся деятельности человека, обязано давать лишь общие, а не точные определения, как мы и говорили с самого начала, что должно требовать определения, сообразного с исследуемым предметом. Исследования же, касающиеся деятельности и понятия пользы, не представляют ничего твердого, как и исследования, относящиеся к здоровью. Если это справедливо даже относительно общего, то тем менее точности может заключать в себе исследование частных явлений, ибо они не могут быть определены никаким искусством или правилом, и каждый отдельный человек в своей деятельности должен иметь в виду обстоятельства точно так же, как и во врачебном искусстве и искусстве управления кораблем. Несмотря на это, должно оказать помощь настоящему исследованию. Должно, во‐первых, обратить внимание на то, что подобные [вышеупомянутые] явления уничтожают сами себя недостатком или избытком. Мы должны при этом пользоваться указаниями ясного и конкретного для объяснения отвлеченного (άφανών): это мы видим, например, по отношению к телесной силе или здоровью: слишком усиленное или недостаточное занятие гимнастикой губит телесную силу, точно так же и недостаточная или излишняя пища и питье губят здоровье, в то время как пользование ими в меру рождает, сохраняет и увеличивает здоровье. Так же дело обстоит и относительно умеренности (σωφροσύνη), мужественности и других добродетелей, ибо тот, кто избегает и боится всего и ничего не испытал, тот становится трусом, а тот, кто ничего не боится и идет на все, становится безумно-отважным; точно так же тот становится невоздержанным, кто предается всякому наслаждению и ни от одного не удерживается; напротив, человек, избегающий всякого наслаждения, становится бесстрастным (άναίσίϑητος), как аскет (оξ άγροιϰοι). Умеренность и мужество в одинаковой мере гибнут от избытка и недостатка, в то время как середина спасает их. Но не только зарождение, рост и гибель стоят под этими условиями и зависят от них, но и проявление этих добродетелей заключается в том же самом. Ведь это видно на других, более наглядных примерах, как например, на телесной силе: возникает она вследствие достаточного питания и больших физических трудов, и, с другой стороны, сильный станет к этому наиболее способным. То же самое и относительно добродетелей: мы становимся умеренными, воздерживаясь от удовольствий, но, став такими, мы будем наиболее способными воздерживаться от удовольствий. То же и относительно мужества: привыкая презирать опасности, мы становимся мужественными, а став таковыми, более всего будем способны противостоять опасностям. Наслаждение и страдание, сопутствующие деятельности, свидетельствуют о том, что указанные приобретенные свойства души возникают из деятельности, ибо тот умеренный человек, кто находит наслаждение в воздержании от чувственных удовольствий; тот, напротив, невоздержанный, кто при этом испытывает неудовольствие, и тот мужествен, кому доставляет наслаждение или, по крайней мере, не доставляет страдания противостоять опасностям; напротив, тот трус, кто при этом испытывает неудовольствие. Этическая добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, ибо ради наслаждения мы поступаем дурно и вследствие страдания не выполняем прекрасного; поэтому-то и необходимо, как говорит Платон, тотчас с молодости вести человека так, чтоб он радовался, чему следует, и испытывал страдание, когда следует; в этом-то и заключается истинное воспитание. Далее, и из того уже ясно, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что добродетели касаются деятельности и аффектов, а всякому действию сопутствует наслаждение или страдание. Это же доказывают и наказания, действующие страданием: ведь наказание известного рода лечение, а лечение производится противоположным. Далее, мы уже ранее сказали, что всякое приобретенное качество души проявляется и имеет дело с тем, в силу чего качество становится худшим или лучшим; наслаждение же и страдание делают людей дурными в силу того, что они стремятся и избегают их, притом стремятся к тому, к чему не следовало бы стремиться, и избегают того, чего не следовало бы избегать, или делают это не вовремя, или не так, как следовало и так далее по всем категориям, которые разум применяет к подобным явлениям. Поэтому-то некоторые и определяют добродетель, как известного рода апатию и душевное спокойствие. Ошибка их заключается лишь в том, что говорят они это безусловно, не добавляя к этому определению положительных и отрицательных признаков, не указывая обстоятельств и вообще не давая более близких определений. Следовательно, добродетель есть то, что делает человека способным к совершенной деятельности по отношению к наслаждению и страданию, порочность же – противоположное. Сверх того, еще и следующее обстоятельство уяснит нам, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием: три понятия определяют наш выбор и наше уклонение от него: прекрасное, полезное и приятное, и три противоположных понятия: некрасивое, вредное и неприятное. Во всем этом хороший человек находит истину, дурной же ошибается, и в особенности по отношению к наслаждению, ибо это последнее обще всем животным и сопряжено, как следствие, со всем тем, относительно чего существует выбор; прекрасное и полезное в то же время и приятно. К тому же наслаждение смолоду возрастает вместе с нами, и чрезвычайно трудно уничтожить в себе это состояние, которым проникнута вся жизнь. Наслаждением и страданием управляются все наши действия, одни более, другие менее. Итак, вся этика необходимо должна рассматривать наслаждение и страдание, ибо немаловажно для деятельности, хорошо радоваться и страдать или дурно. Сверх того, с наслаждением бороться, говорит Гераклит, труднее, чем с гневом, а искусство и добродетели всегда имеют дело с тем, что трудно, и совершенство в этой сфере выше. Итак, и из этого обстоятельства можно заключить, что вся наука о добродетели и политика имеют дело с наслаждением и страданием; тот хороший человек, кто хорошо ими пользуется, а кто дурно, тот дурной. Итак, запомним, что добродетель имеет дело с наслаждением и страданием, что те же самые условия, в силу которых добродетель возникает, увеличивают ее или, если они действуют не надлежащим образом, губят ее, и что добродетель проявляется именно в том, из чего возникла.