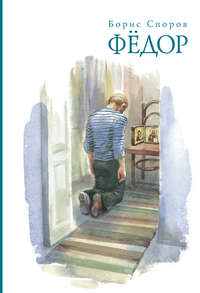Полная версия
Живица. Исход
– А что это вроде Виктора не видно, директорши сына? – как будто невзначай в разговоре спросила Анна.
Вздохнув, старуха ответила:
– Не видно чтой-то, как осенью уехал, так и не бывал – прыткий.
– Неужто здесь остановится… Ертики – блуд по миру сорят, – глухо, как в бочку, отозвался старик Мурашкин. Он лежал на печи – большой, тяжелый, необъёмный. Откинутая на сторону рука вырисовывалась витым куском каната с увесистым узлом-кулаком на конце. Казалось, что в минуту старик делал один вздох.
– Плох наш дедушко стал, – по-обыденному просто пояснила Мурашкина. – Байт, – она взяла ведро с помоями, чтобы вынести, – байт, что умирать решил. Да уж и то верно – пора…
Еще раз глянув на деда, Анна почувствовала, что вот сейчас же и заплачет от жалости или страха.
– Ересь по миру сорят, – после долгой паузы подтвердил дед сам себе.
Анна скоренько запеленала-закутала Гришу и, кое-как простившись и отказавшись от чая, ушла, чтобы вторично уже сюда не приходить.
«Поступил учиться», – решила она о Викторе и как будто успокоилась…
Без помощи Анна так замоталась с сыном, так он ее закружил, что она даже удивилась, когда получила из Перелетихи письмо, написанное сбивчиво, с досадой. Её упрекали в том, что на последние два письма она не ответила, что с ноября от нее вовсе нет весточки, что… Впрочем, толком письмо Анна так и не поняла, читала, а понять не могла. Однако в тот же день отправила по почте матери сто пятьдесят рублей, а что до письменного ответа, то все откладывала – руки не доходили… А точнее: в письме надо было лгать, а лгать она не смогла бы.
В последнее время Соловьев почему-то стал более вспыльчив и капризен. Анна помалкивала – ее ли дело; но однажды все же пожаловалась Ирине:
– Что-то мой без конца беленится… Яичко поджарю – будешь?
– Жарь, буду. Кто беленится? Соловьев беленится?
– Ну а еще-то кто? – Анна поставила на электроплитку сковороду, присела рядом на стул. – Не так да не так – не угодишь. То мечется весь день, как взбалмошный, то запрется в кабинете – и ходит, ходит.
Ирина вздохнула – точно опустошилась.
– Работа такая, на нервах… А может, понравилась. Загрызет. – И усмехнулась, как поморщилась. – Они ведь все… кобели. Секретарша для них – рабочая жена… Так-то.
Анна насторожилась, мгновенно припомнив каждое слово, каждый каприз Соловьева.
– А кто ж его знает, право. – Она помолчала. – Нет уж, хватит, ни в жизнь, скорее сдохну.
– Дура деревенская. – Ирина добродушно усмехнулась. Но, поднявшись со стула, нервно обхватила себя руками за плечи, точно подумала вслух: – А может, так и правильно, может, так и надо, не знаю… Как все надоело…
5
Поздний вечер. На дворе первая мартовская оттепель. В открытую форточку тянет весной – запахом сосулек и оттаявшего леса. Но за окнами темно, неприветливо, и Анна с удовольствием отстукивает на машинке десятую страницу «левого» текста.
Пошлепывая калошами, с ведром в руке вошла тетя Маша – уборщица.
– Анна Петровна, – обратилась она, запястьем руки со лба убирая волосы, – там к тебе приехали, спрашивают, похоже – гости.
Анна пожала плечами и, уверенная, что к ней не может быть никаких гостей, пошла в коридор парадного.
– Ой, – ахнула, отшатнулась к двери и закрыла глаза. – Мама…
На чемодане сидела мать, по бокам от неё стояли братья.
И, не обронив еще ни слова, Анна повернулась и убежала – все это было делом секунд. Машинально убрав бумагу, заперев стол, она, как столбнячная, села за машинку… «Да что это со мной?» – сжимая ладонями край стола, возвращаясь в себя, подумала Анна и, вскрикнув: «Мама!» – выбежала в коридор.
Словно крыльями птица, она охлопывала руками мать и братьев – и целовала их.
– Вставай, мама, пойдёмте!
– Погодь, дочка, погодь, не шибко… Я ведь ни-ку-дыш-ная.
Разобрали ношу: обшарпанный чемодан, узел, мешок под завязку и базарную из клеенки новую сумку.
– Вещей-то, вещей! Как папанинцы! Ну и набрали, ну и навязали! – Анна удивленно усмехалась. Но перед своей дверью точно спохватилась, оробела. И в это время заплакал сын. Анну так и вздернуло. А мать враз все и поняла.
– Пошли, дочка, пошли. А ты, полно-ка, что это ты, как лист осиновый, затряслась, до-о-очь.
Ничего не понимая, братья лишь робко переглянулись.
Вещи свалили в угол у двери, но даже не на что было сесть. Анна сбегала в секретарскую, принесла пару стульев.
– Ну, что же вы не раздеваетесь? Что вы как гости! Да что я, вы ведь и есть гости… Надолго ли, мама? – спросила Анна, принимая от матери тяжелое бывалошное пальто.
– Да как тебе, доча, сказать – навовсе.
– Вы? Навовсе? – Анна отступила-отшатнулась и обессиленно села на кровать. А в глазах такая растерянность, такой испуг, что мать поспешила с оговоркой:
– Да ведь, Аннушка, видно будет, не то и уедем.
Но Анна, казалось, уже ничего не соображала:
– Как это вы, как это навовсе… А жить как, а жить где? Да что это вы выдумали! Завтра же домой! – в истерике выкрикнула она, но уже тотчас как будто и опомнилась: – Господи, что это я, право…
– Дочушка, да ведь я скоро помру, я уж погиблая, – вздохнув, сказала мать. И ее спокойное заявление о смерти окончательно отрезвило Анну.
– Хоть бы, что ли, написали. – Анна беззвучно плакала.
И только теперь всполохнулись: Гриша заливался на весь постройком. Анна метнулась к кроватке, но на мгновение оцепенела: на нее в упор смотрел Алешка – хмуро, исподлобья. Он не разделся и всё ещё держал в руке сумку, точно собираясь уходить.
– А ты что как индюк надулся? Твоего ли тут ума дело! – сорвалась Анна, но в голосе уже не было прежнего негодования. – Ту-ту-тушеньки, ту-ту… вот он какой у нас… маленький. – Воркуя, Анна вынула сына из кроватки. Изгибаясь, он так и сучил ножками и ручками.
– Во дает, как спортсмен, – шмыгнув носом, определил Саня и захихикал. Он уже разделся, бросил свою хламиду в угол и чувствовал себя как дома.
Анна горделиво вскинула голову, повернулась к брату:
– Да, дядя Саша, мы – спортсмены… Подержи нас.
– Дочка, давай-ка, давай мне. – Не поднимаясь со стула, мать протянула руки.
– А это бабушка, баба Лиза, – объясняла Анна, и сын прислушивался.
– Хорош, хорош внучек, – неуверенно сказала Лизавета и, вздохнув, добавила: – А у Верушки двое было, да все сбрасывала.
– Нянька, – искренне удивленный, обратился Саня, – а что это – али твой?
– Цыц, язык-то рассупонил, – строго одернула мать, а Анна, меняя пеленки, с усмешкой ответила:
– Нет, не мой. В капусте нашла…
Поели, развязали узлы, посреди комнаты постелили на троих. Санька и Алешка юркнули под одеяло и тотчас засопели.
– Ишь, уже и пузыри пускают, умаялись родимые, – сказала Лизавета, тихонько покачивая кроватку с внуком.
Затенькала крышка – закипел электрический чайник.
– Садись, мама, чай пить, – позвала дочь. Сели рядышком. – И как это, мама, ты решилась? Дивлюсь.
– Да ведь как решилась? Так и решилась… Сызнова, почитай, семь недель отлежала, вовсе обезножила. Думала, помру. А вот поди ты – Бог милостив, отпустило. Я уж и поднялась. – Говорила Лизавета спокойно, с аппетитом отхлебывала чай, по крохотке прикусывая сахар.
– Бери, мама, больше, наводи сладкого – сахар есть.
– Не бай, дочка, никак и не напьюсь. Пра, отвыкла… Что ли, где достаешь сахар? – как о великой тайне спросила мать.
– В магазине сколько хочешь, были бы деньги, – с гордостью ответила Анна.
– Благодать-то какая. – Лизавета вздохнула и продолжила прерванный рассказ: – Нинушку у Веры оставила, она уж очень к ней привязалась… Корова чуть не пала – продали. Картошка кончилась. Хоть ложись да ноги и вытягивай… Вот и поднялась. Пока, думаю, оклемалась – надо ехать. Сама-то хоть где умру – ладно, да хоть мальчишки при тебе. Может, и сдюжишь… Они ведь скоро и на ноги встанут, – невольно успокаивая, заключила мать. – Сторицей отблагодарят они тебя.
Анна тоскливо взглянула на братьев – ростом они были одинаковые.
– Ну и жердила будет Санька, не гляди, что младший.
– Не бай, как на дрожжах милый, в отца, чай, помнишь.
– Папа высокий был, – согласилась Анна, и ей только теперь сделалось стыдно за то, как приняла она мать и братьев. – Ты, мама, прости меня, погорячилась я, знаешь, я ведь психопаткой стала…
– Полно, дочка, об чем калякаешь. Другая бы и на порог не впустила. Мыслимое ли дело – трое. Пять ртов на одну шею. Я ведь не дитя, разумею.
Они замолчали, каждая по-своему думая о том, а на что и как будут жить. Потом Лизавета запустила руку за пазуху, достала сверток, тщательно закрученный и связанный.
– На, дочка, три с половиной тыщи – за корову получили.
Снова молчали – и думы их витали вокруг предстоящей нужды.
– До-очь, – положив руку на колено Анны, тихо спросила мать, – как отечество-то, а?
Анна потупилась, слезы сами собой упали на материнскую руку.
– Не надо, мама, об этом, не надо…
– Да что это ты, дочь! – ласково возмутилась Лизавета. – Нешто я тебе чужая! Сама мать – ты моя первенькая и была.
И они обнялись, и заплакали, и выплакались сполна.
6
Из кино шли медленно. Сырой весняк то напористо-ровно тянул в спины, то, срываясь, подхватывал под плащи, подстегивал. По сторонам дороги на столбах раскачивались тусклые осветительные лампочки под жестяными гремучими тарелками – и метались тени, не в силах сорваться по ветру.
– Теперь вздыхать поздно. – Ирина глубже в карманы плаща запустила руки. – Не выгонять же их. Оформляй документы, прописывай, ребят – в школу.
– Но у мамы нет даже справки из колхоза, они ведь как беглецы…
– Да чихать на эти справки! – Ирина и возмущалась как будто нехотя. – Ты, Анна, какая-то недотеньканная, что ли. Кто там в паспортном столе? – Она подумала. – Да, Зеленый, Зеленов ли, майор, кажется. Паспорт будет, – заключила уверенно. – Я ему позвоню… Ты смотри другое не прохлопай, – после минутного раздумья продолжила она. – Ясно, что тебя будут выселять, все-таки учреждение. Ни в коем случае не соглашайся на угол. Вас пятеро, как здесь говорят, пять душ. У тебя ребенок, больная мать, братья-школьники. А влезешь в угол – годами не выберешься. – Она недвусмысленно усмехнулась. – Соловьевым ты, конечно, не воспользуешься, а то можно бы… В крайности я своему подскажу. Запомни: здесь не в деревне – здесь все можно… Как говорят, хочешь жить – умей вертеться. Учись, пока я жива! – И Ирина неожиданно хлопнула Анну по плечу.
На перекрестке разошлись. Анна смотрела вслед подруге до тех пор, пока она не скрылась в темноте.
– Вот как, ну и ну: век живи – век учись, – неопределенно произнесла Анна вслух и строго поджала губы.
* * *Алешку с Саней без труда определили в поселковую школу – доучиваться. А через десятидневку мать, как божий дар, рассматривала новенький паспорт, первый паспорт в ее жизни.
Анна только восхищалась собой, как и мать ею – все так складно получалось.
– Вот тебе и «бочком» да «валиком», во, мальчишки, учитесь! – Анна восторженно смеялась. – Квартиру бы еще «оторвать», на новом бы поселке!..
Она не послушала совета Ирины – выжидать – и вскоре направилась к Кузнецову, к заместителю начальника строительства по кадрам и быту.
Он сидел за зеленым сукном стола: маленький, большеголовый и плосколицый, с беспорядочно вьющимися волосами.
– Пишите заявление, поставим на очередь, – не выслушав, ответил Кузнецов. И только Анна решила пустить в ход мягкое упрашивание, как он неожиданно вскочил из-за стола и, хватаясь за голову, закричал: – У нас семьи в палатках живут! А вы в доме – и тоже с ножом к горлу!
А Анне стало вдруг досадно-горько и уже не хотелось упрашивать, хотелось уязвить, осадить – но как?
– Во-первых, я без ножа, во-вторых, вы что это кричите? – Она натянуто усмехнулась. – Можно подумать, что вы сами с семьей в палатке живете, а не занимаете финский домик.
– Я же вам сказал: пишите заявление, поставим на очередь, – уже спокойно или равнодушно повторил Кузнецов…
«Все это пустые слова, а очередь на годы», – размышляла Анна и пугалась безысходности.
А сын куксился, прихварывал, хотя теперь около него были неотлучные няньки. Но не хватало воздуха и покоя.
– Пойду к своему, в его руках тоже сила, – как-то в обед, сокрушенно вздохнув, сказала матери.
– А што, дочка, сходи, пожалуй, он, кажись, ничего, мабудь, пособит.
Анна молчала, молчала и мать, не разумея сомнений дочери.
– Вот так… может быть… – Анна легонько покачивала головой. – Ты, мама, если что, не суди меня: семь бед – один ответ.
Мать что-то гукнула себе под нос и, припадая на больные ноги, отошла подать второе.
7
С утра Соловьев был хмур – с утра «бегал» по кабинету. К нему приходили – он принимал, но каждый раз повторял:
– Аня, по личным я не принимаю, меня нет…
О причине его плохого настроения Анна догадывалась, хотя в подлинности своих догадок и сомневалась. Полгода назад арестовали прораба палкинского участка Смульского – и он как будто канул. И уж совсем недавно арестовали Танкевича – главного архитектора строительства. О Смульском так ничего и не было слышно, о Танкевиче распускались слухи – шпион, с Америкой связан.
Позднее от Ирины Анна узнала, что Смульский и Танкевич – давние друзья Соловьева, вместе они когда-то побывали на Беломорско-Балтийском канале, осваивали в Заполярье шахты. Затем работали на Свири, вместе приехали и на Волгу.
Без друзей Соловьев явно тосковал, а ко всему и в семье у него не ладилось.
Из всех Анне нравился Танкевич – культурный, уважительный, он частенько заходил в постройком к Соловьеву и всякий раз уже с порога приветливо говорил:
– Ну, как наши Анютины глазки? – и угощал дорогой конфетой, как будто специально приносил.
Гуляя с Гришей, Анна не раз видела Танкевича с женой. Красавица, она была годами двадцатью моложе иссушенного и желтолицего, но вечно добродушного мужа. Соловьев же никогда нигде не появлялся с женой. Лишь однажды она заходила в постройком и не понравилась Анне, может быть, потому, что напоминала внешностью Людмилу Станиславовну…
* * *– Тебе что? – хмурясь, спросил Соловьев, когда Анна вошла в кабинет.
– Вот, на подпись, здесь – по статье спортинвентаря… И здесь.
– Что ещё?
– Иван Васильевич, – после короткой заминки начала Анна, – помогите мне с квартирой.
– С какой ещё квартирой?
Он явно был раздражен. Эх, Анна, не вовремя сунулась, но отступать некуда.
– Нам нужна квартира – здесь тесно.
– Квартира… Нет квартир.
Анна потупилась, но не уходила. Соловьев равнодушно осмотрел ее и склонил голову.
– А какого черта ходила к Кузнецову! К кому? – Он недобро усмехнулся.
– А почем я знаю, к кому идти…
– Почем, почем… По тому самому кирпичом. – И это замечание, видимо, на секунду развеселило Соловьева. Красным карандашом он написал на чистой стороне численника «Квартира» и жирно округлил слово. – Нет квартир, – повторил резко.
Анна вздрогнула, потому что ожидала вроде бы лучшего. Глаза ее округлились в испуге, она было повернулась, чтобы уйти, но задержалась и, обмирая в душе, сказала:
– Ведь такая теснота… битком… хоть бы зашли, посмотрели… ни разу не зашли…
Анна была еще слишком искренне проста, чтобы уметь скрывать свои мысли – они отпечатывались на ее лице.
– Зайду, сегодня зайду, – спокойно согласился Соловьев, чувствуя и видя Анну за ее словами…
Улеглись раньше обычного. Анна ждала. И когда в дверь постучали, даже мать создавала видимость, что спит.
С порога Соловьев чуть не наступил на спящих. Он усмехнулся, не дожидаясь особого приглашения, снял пальто, шапку – повесил на гвоздь и бочком-бочком прошел вперед, к столу.
– Да, действительно, у вас тесновато, как говорится, без перегородок, в два яруса…
Анна не представляла, как взглянуть ему в глаза, с чего начать, но оказалось все гораздо проще.
– У тебя найдется чем-нибудь закусить? – спросил он, ставя на стол бутылку водки.
Анна невольно вздрагивала от его громкого, непринужденного говора.
– Есть, – с кивком тихо ответила она и поспешила достать-выставить из тумбочки хлеб, селедку, колбасу, сырки – все, что было заранее приготовлено.
Выпили. Он выпил ещё и во время долгой задумчивости машинально взял ее руку в свою, легонько покачал, прикрыл ладонью другой руки и неожиданно спросил:
– Зачем вы сюда приехали?
Анна смешалась, ответила, что на язык подвернулось:
– Жить.
– Ясно, что не умирать… Стройка – не ваше дело. – Он покачал головой. – Эх, не ваше. Они по необходимости, из нужды в нужду, а ты? Ведь ты здесь как слепая. И это первая награда, – кивнул на спящего Гришу. – Отец его был симпатичен, красиво говорил, ну и, бесспорно, ненавидел всех женщин… Ты только не злись, не выкручивайся и не возражай. Все это сказать я имею право. Ты только думаешь, а я уже знаю, о чем ты думаешь и что скажешь… Вам нужна квартира – я знаю. Ты решила, что мной можно воспользоваться, а я тебе дважды в отцы гожусь. – Он вздохнул. Закурил. – Кто тебя этому научил? Кто тебе сказал, что все начальники падкие на своих секретарш? Ирина?
Огорошенная Анна покачала головой – нет. А Соловьев беспощадно усмехнулся:
– Тем более! Уже своим умишком додумалась – поняла материалистическую диалектику. А понадобится еще что-то? В итоге – ни семьи, ни любви. Последняя деревенская баба будет счастливее тебя… Вы родились в деревне – там ваше…
Досада и слезы так и вязали горло, но Анна терпеливо молчала, чутьем угадывала: любые слова – во вред.
– Я, пожалуй, долго в председателях не буду, – точно подумал Соловьев вслух. – Ну а с жильем постараюсь помочь. Только ты оставайся собой, хоть бы на этом уровне попытайся остаться. Да не меряй всех одним аршином – разочаруешься. И в паскудную грязь не влезай: засосет – захлебнешься.
Что он мог ей сказать, вершивший революции и стройки коммунизма, чем он мог её обнадёжить и утешить? Он знал, как должен человек жить, но не знал и знать не мог, из чего складывается человеческое счастье, потому что и сам он не чувствовал себя счастливым ни раньше, ни теперь… В послевоенной экономической и духовной разрухе, когда просто сытый человек был уже вправе считать себя счастливым, Соловьев одно прекрасно понимал: что он не должен, не имеет права лгать, только правда может в таких условиях спасти человека, правда не вообще, а как он сам ее понимал… И Соловьев не солгал, сказав свою правду, поднялся и ушел, оставив недопитую водку, табачный дым, растерянную Анну и беззвучно плачущую мать.
8
Все чаще и дольше засиживалась Анна за машинкой, но нужда опережала. Теперь уже и мать не удивлялась тому, как здесь неумолимо быстро уплывают денежки. Поэтому, когда предложили работать уборщицей в библиотеке – в том же доме, за двумя стенами, Лизавета храбро согласилась, а сыновья охотно обещали помогать.
В месяц сто аванса, двести сорок в расчет – не шутка!
Однажды, покурлыкивая под нос, охая и ахая, влезая на переносную лестницу или на стул, Лизавета влажной тряпицей стирала с полок накопившеюся пыль. Много уже протерла, когда полки вдруг качнулись и поплыли.
На дворе опахнуло свежим воздухом – поотпустило, но когда Лизавета вошла в комнату, сели на стул, то дышать стало совсем трудно.
– Сынка, Саня! Зови Аннушку, там она, у себя, никак я отхожу… Дочушка… давит, сердце мрёт… мальчишек, Господи, блюди, – наконец договорила Лизавета и безвольно повалилась со стула.
Подхватив мать под руки, уложили на кровать, и Анна побежала звонить. Она заплакала, когда с другого конца провода начали допрашивать: какого пола больной, сколько лет, где работает и что случилось.
Помощь, однако, приехала скоро.
* * *За семь месяцев, что Лизавета отлежала в больнице, Анна совсем извелась. Мальчишки так и старались улизнуть на улицу, кто-то из них потаскивал из карманов мелочь, кто-то покуривал.
Жили на одну зарплату, квартиру не обещали, мать лежала пластом.
Как-то осенью Соловьев сказал:
– Ты, Аня, напиши заявление на имя постройкома, попроси материальную помощь, а то твои соколики совсем пообносились.
Анна написала – и ей помогли. На полученную тысячу рублей она справила обновки для всех.
– Вот как! Тыщу дали! Бочком да валиком! – козыряла сестра перед братьями. – А я зимой-то еще напишу! – искренне радуясь, говорила она в больнице вяло улыбающейся матери.
* * *Они только что пришли с ноябрьской демонстрации, которую неожиданно смазал первый снег: сразу стало холодно и сыро.
Ирина не замедлила разуться – и на кровать, ногами к радиатору. Анна собирала на стол, пошмыгивая носом, потирала озябшие руки.
– Гляжу на тебя, Анна, и удивляюсь. – Ирина нехотя листала хрестоматию по литературе для шестого класса. – И как ты можешь вот так – одна? Хотя бы какого-никакого присмотрела.
Анна усмехнулась-хмыкнула:
– Вон у меня мужичишко – хватит. Во-о-он он… сынулька-здоровулька. Те-те-те…
– Нет, я вполне серьезно – это же естественно.
– А мне не хочется, – сказала Анна и от своих же слов застыдилась.
– Вот я и удивляюсь… Слушай, я тебе о Гриневе прочитаю – про любовь.
– Оставь, я о нем уже сто раз читала.
Ирина лежала расслабленно, а взгляд ее шало блуждал по забитому хлопьями снега окну.
– Поднимайся пьянствовать! – желая встряхнуть подругу, предложила Анна.
– Вермут? Н-нет, у меня впереди коньяк. – Ирина отбросила хрестоматию в ноги и, легонько стукнув кулаком по стене, сказала-подумала: – Замуж, что ли, выйти?
– В чем же дело? Давай, на свадьбе погуляем!
– Одна помеха: хорошие не берут, за плохих – не хочу… То, знаешь, дурак, то забутыльник, а другой и ничего, да гол безнадежно – сам себя не прокормит. – Она усмехнулась. – Впрочем, как здесь говорят: каки сами, таки и сани.
– Да уж не рисуйся.
– А действительно, хочешь, выйду замуж?
– Это, во-первых, дело хозяйское. – Анна насторожилась. – И за кого же?
– Да есть тут один хмырик… тоже: ни рыба ни мясо. Да ты его должна знать. Ты ведь в Пестове работала. Так этот, директорши…
– Виктор? – невольно опередила Анна.
– Ну да, он. Заявился. Артист! Посмотришь – фигура! А что в этой фигуре?
Как потерянная, посреди комнаты стояла Анна, силилась улыбнуться, но лишь губы вздрагивали. Ирина прищурилась и, высвободив ноги из ребер радиатора, села в кровати.
– Какая же я дура, действительно дура, как здесь говорят, набитая… Гришка-то – Викторович, угу?
Анна в ответ кивнула, склонила голову и отвернулась.
– Ну, только давай без слез. Иди, иди сюда, сядь рядом…
– Откуда же он приехал? – поуспокоившись под рукой Ирины, спросила Анна.
– Извини, но черт его знает. У него ведь не поймешь: где кривда, где правда.
– Он в университете учится…
– В университете? Да ему в школе учиться надо!.. Точно. Это он тебе заливал.
Замолчали, чувствуя, что разговор родился недобрый и что обеим он в тягость, но и хорониться теперь было нелепо.
– Когда-то он возомнил себя будущим чемпионом мира, – продолжила Ирина. – Все бросил, решил «в темпе отхватить мастера», чтобы дуриком получать тысячу двести целковых. Теперь же потолкался среди мастеров, понял, что там он – школяр, вот и решил пока быть первым в деревне, чем последним в городе. Видишь, я о нем знаю больше, чем ты. – Они так и сидели рядышком, обнявшись, и Анне было даже уютно. – Оформляется в УОС, на монтажный участок.
– Ну и дела! – от недоумения Анна даже головой качнула.
– А ты как думала? Все они, Анна, одинаковые. Правда, передо мной он почему-то не рисуется, понимает, что не пройдет… Э, давай пьянствовать! – И глаза Ирины заиграли таким озорством, что Анна, вздрогнув, подумала: «Не шутит ли она?»
– Слушай! – Ирина щелкнула пальцами. – Я его на тебе женю! Хочешь? – (Анна молчала, пощипывая ворс одеяла.) – Ну погоди, друг милый, я те кровушку испорчу! – В прищуре глаз ее блеснул жутковатый холод.
– Зачем так, Ирина, Бог с ним, не надо, да и не такой ведь он плохой.
– Ну!.. Эх и дура ты, Анька. На ней пашут – она пляшет… Давай пить!
9
Квартиру должен был получить сам Соловьев, но на постройкоме он настоял, чтобы ордер выписали Струниной. Хихикали в кулаки, отговаривали, однако председатель до конца был тверд. А через неделю на отчетно-выборной конференции Соловьев выдвинул категорический самоотвод. Буквально в несколько дней сдал дела, уволился и уехал, говорили, в Воркуту. На прощание он сказал:
– Ну, Аня, хоть добрым словом вспомните… Правда, грех на душу взял: прихватит вас намертво благоустроенная жилплощадь.
И только тогда она поняла, что Соловьев бежал, тем самым избежав ареста.
* * *Новый год встречали в двухкомнатной квартире «каменного города».