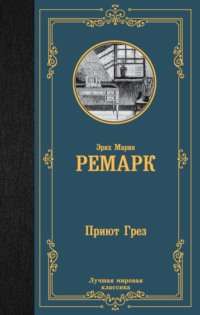Полная версия
Три товарища и другие романы
Потом я пошел ее провожать. Мы шли рядом в серебристых сумерках рани и почти не разговаривали. Тележки с молоком громыхали по асфальту, разносили газеты. Какой-то старик сидел перед домом и спал. Его подбородок дрожал, как подвешенный на веревочке. Мимо нас проехали велосипедисты с корзинами булочек. На улице остался запах свежего теплого хлеба. Высоко над нами в голубеющем небе летел самолет.
– Сегодня? – спросил я Пат перед ее дверью.
Она улыбнулась.
– В семь? – спросил я.
Она совсем не выглядела усталой. Была свежа, как будто долго спала. Она поцеловала меня на прощание. Я оставался стоять перед ее домом до тех пор, пока не увидел, как в ее комнате зажегся свет.
Потом я пошел обратно. По дороге мне пришло в голову многое из того, что я мог бы сказать ей, много прекрасных слов. Я бродил по улицам и думал о том, что я мог бы сказать и что сделать, если бы был совсем другим человеком. Потом я завернул на рынок. Фургоны с овощами, мясом и цветами были уже на своем месте. Я знал, что цветы здесь втрое дешевле, чем в магазинах. И я накупил тюльпанов на все деньги, какие у меня еще оставались. Они были великолепны – совершенно свежие, с капельками влаги в бутонах. Мне досталась целая охапка. Продавщица обещала отослать их в одиннадцать часов Пат. Рассмеявшись, она приложила к букету еще толстый пучок фиалок.
– Они будут радовать вашу даму не меньше двух недель, – сказала она. – Надо только положить в воду пирамидон.
Я кивнул и отдал ей деньги. А потом медленно пошел домой.
X
В мастерской стоял отремонтированный «форд». Новой работы не было. Нужно было что-то предпринимать. Мы с Кестером отправились на аукцион. Хотели взглянуть на такси, которое там шло с молотка. Такси всегда можно было с выгодой перепродать.
Аукцион помещался в глухом дворе на северной окраине города. Помимо такси, здесь продавалась еще куча разных вещей. Часть из них была выставлена во дворе. Кровати, шаткие столики, позолоченная клетка с попугаем, который кричал «Здравствуй, дорогой», напольные часы, книги, шкафы, старинный фрак, кухонные табуретки, посуда – жалкий мусор нищей, крошащейся, гибнущей жизни.
Мы пришли слишком рано, распорядителя аукциона еще не было. Я порылся в развале и полистал пару книг – зачитанные дешевые экземпляры древнегреческих и латинских авторов со множеством пометок на полях. Не стихи Горация и не песни Анакреона были на этих замусоленных, истрепанных страницах, то был вопль пропащей жизни с ее беспросветной нуждой и потерянностью. Для владельца этих книг они были последним прибежищем, и он цеплялся за них, сколько мог, и уж если расстался с ними, значит, дошел до точки.
Кестер заглянул мне через плечо.
– Грустное зрелище, а?
Я кивнул и показал на другие вещи.
– Как и все это, Отто. От хорошей жизни шкафы с табуретками сюда не потащишь.
Мы направились к машине, которая стояла в углу двора. Лак потрескался, местами облупился, но в целом машина была чистенькой, и даже крылья были в порядке. Неподалеку стоял коренастый мужчина; свесив жирные руки, он тупо наблюдал за нами.
– А мотор ты проверил? – спросил я Кестера.
– Вчера, – сказал он. – Порядком изношен, но ухожен отменно.
Я кивнул:
– Да, вид у машины именно такой. Наверняка ее мыли еще сегодня утром, Отто. И вряд ли этим занимался этот бездельник-аукционист.
Кестер посмотрел на коренастого мужчину.
– Наверное, это и есть владелец. Он и вчера тут был и машину чистил.
– Ну и вид у него, черт возьми, – сказал я, – как у раздавленной собаки.
Какой-то молодой человек пересек двор и подошел к машине. На нем было пальто с поясом, его пижонский вид отталкивал.
– А, так вот она, колымага, – сказал он, обращаясь не то к нам, не то к мужчине, и постукал тростью по капоту. Я заметил, как в глазах мужчины что-то дрогнуло.
– Пустяки, чего там, – снисходительно бросил подпоясанный, – лакировке все равно уже грош цена. Да, почтенная рухлядь. Ее бы в музей, да? – сказал он и залился смехом от собственного остроумия, поглядывая на нас в поисках сочувствия. Мы не смеялись. Он повернулся к владельцу машины. – Сколько же вы хотите за это ископаемое?
Мужчина проглотил слюну и промолчал.
– Видимо, пойдет по цене металлолома, а? – продолжал трещать юнец, пребывая в радужном настроении. Он снова повернулся к нам. – А вы, господа, тоже интересуетесь? – И понизив голос: – Можем обтяпать дельце. Отыграем ее по какой-нибудь тухлой цене, а выручку пополам. Что, а? А чего ради навешивать им лишние деньги! Кстати, позвольте представиться. Гвидо Тисс из фирмы «Аугека».
Он вертел своей бамбуковой тростью и подмигивал нам с видом доверительного превосходства. «Эта тля в свои двадцать пять прошла уже огни и воды», – подумал я с ненавистью. Мужчину рядом с машиной было искренне жаль.
– Тисс… – произнес я. – Эта фамилия вам не очень подходит.
– Неужели, – сказал он, явно польщенный. Как видно, он привык получать комплименты за свою бойкость.
– Ну конечно, – продолжал я. – Сопляк – вот бы вам что подошло. Гвидо Сопляк!
Он отпрянул.
– Ну да, конечно, – промямлил он, приходя в себя, – двое на одного…
– Если дело в этом, – сказал я, – то я готов и один пройти с вами, куда прикажете.
– Нет уж, благодарю, – ответил Гвидо деревянным голосом, – покорно благодарю! – И удалился.
Коренастый мужчина с потерянным лицом не отрываясь смотрел на машину, как будто все это его не касалось.
– Не надо нам ее покупать, Отто, – сказал я.
– Ну так ее купит эта мразь с поясом, – возразил Кестер. – И мы тогда владельцу ничем не поможем.
– Это верно, – сказал я. – И все-таки есть в этом что-то нехорошее.
– А в чем в наше время нет нехорошего, Робби? Поверь, для него же лучше, что мы здесь. Так он хоть получит за машину побольше. Но я тебе обещаю: если эта мразь препоясанная ничего не предложит, то я тоже буду молчать.
Пришел аукционист. Дел у него, видно, было много, и он спешил. Ведь каждый день проводились десятки аукционов. Сопровождая слова отточенными плавными жестами, он приступил к распродаже жалкого скарба. У него был чугунный юмор и деловитый тон человека, ежедневно соприкасающегося с нищетой, но не задетого ею.
Вещи расходились за пфенниги. Большую часть приобрели всего несколько торговцев. Встречая взгляд аукциониста, они небрежно поднимали один палец или отрицательно качали головой. Но порой за взглядами аукциониста следовали взгляды других глаз; эти глаза с изможденных женских лиц взирали на пальцы торговцев как на заповеди Господни – с надеждой и страхом. За такси трое людей – первым Гвидо – предложили три сотни марок. Не цена, а насмешка. Коренастый подошел поближе, шевеля губами. Казалось, он тоже хочет что-то предложить. Но рука его, приподнявшись, тут же и опустилась, и он отошел. Затем было предложено четыреста марок. Гвидо пошел на четыреста пятьдесят. Возникла пауза. Аукционист переводил глаза с одного покупателя на другого.
– Кто больше! Четыреста пятьдесят – раз, четыреста пятьдесят – два…
Мужчина стоял у своего такси понурившись и с выпученными глазами, как будто ожидал удара в затылок.
– Тысяча, – сказал Кестер. Я посмотрел на него. – Она стоит трех, – шепнул он. – Видеть не могу, как они его режут.
Гвидо подавал нам отчаянные знаки. Он и «сопляка» забыл, как дело коснулось денег.
– Тысяча сто, – проблеял он и стал моргать нам обоими глазами. Будь у него еще один глаз сзади, он стал бы моргать и им.
– Полторы, – сказал Кестер.
Аукциониста обуял азарт. Он пританцовывал, помахивая молотком, точно капельмейстер дирижерской палочкой. Да, тут речь пошла не о двух-трех марках, как до этого.
– Тысяча пятьсот десять, – заявил Гвидо, утирая пот со лба.
– Тысяча восемьсот, – сказал Кестер.
Гвидо, постучав пальцем по лбу, сдался. Аукционист вертелся волчком. Я вдруг вспомнил о Пат.
– Тысяча восемьсот пятьдесят, – вырвалось у меня помимо воли.
Кестер с удивлением повернул ко мне голову.
– Полсотни я добавлю сам, – поспешно сказал я. – Так надо – на всякий случай.
Он кивнул.
Аукционист ударил молотком, присудив нам машину. Кестер немедленно заплатил.
– Нет, надо же! – все никак не мог успокоиться Гвидо, подошедший к нам с таким видом, будто ничего не случилось. – Мы бы могли иметь ее за тыщу! Третьего мы бы быстро вывели из игры.
– Здравствуй, дорогой! – произнес у него за спиной жестяной голос.
То был попугай в позолоченной клетке, до которого теперь дошла очередь.
– Сопляк, – добавил я. Гвидо, пожав плечами, исчез.
Я подошел к мужчине, которому принадлежала машина. Рядом с ним теперь была бледная женщина.
– Итак… – сказал я.
– Знаю, знаю… – ответил он.
– Мы бы предпочли этого не делать, – сказал я. – Но тогда вы бы получили меньше.
Он кивнул, нервно теребя руки.
– Машина хорошая, – сказал он внезапно и как-то захлебываясь, – хорошая, этих денег она стоит, уж это точно, вы не переплатили, не думайте, дело тут не в машине, – нет, тут другое.
– Я понимаю, – сказал я.
– Этих денег мы все равно не увидим, – сказала женщина, – все отдать придется.
– Ничего, мать, все образуется, – сказал он. – Все образуется!
Она не ответила.
– Там поскребывает маленько – при переключении на вторую, но это ничего, не дефект, так сразу было, еще когда она была новой, – сказал мужчина таким тоном, будто вел речь о своем ребенке. – Она у нас три года, и ни одной поломки. Просто я тут разболелся, ну а мне тем временем подложил свинью один… друг…
– Один негодяй, – сказала женщина с каменным лицом.
– Да ладно, мать, – посмотрел на нее мужчина, – я еще выкарабкаюсь, увидишь. А, мать?
Женщина не ответила. Мужчина весь взмок от пота.
– Оставьте мне свой адрес, – сказал Кестер. – Может быть, нам понадобится водитель.
Мужчина торопливо, но старательно вывел свой адрес тяжелой честной рукой. Я переглянулся с Кестером, мы оба понимали, что должно произойти чудо, чтобы из этого что-нибудь вышло. Но время чудес миновало. Чудеса теперь бывают разве что в худшую сторону.
А мужчина все говорил и говорил, будто в бреду. Аукцион уже кончился. Мы остались одни во дворе. Он рассказывал нам, как пользоваться стартером зимой. И то и дело трогал машину руками. Но потом как-то сразу стих.
– Ну пойдем же, Альберт, – сказала женщина.
Мы подали ему руку. Они ушли. Мы подождали, пока они скрылись из виду, а потом завели машину.
Выезжая со двора, под аркой мы увидели, как старушка с попугаевой клеткой в руках отбивается от ребятишек. Кестер остановился.
– Вам куда? – спросил он старушку.
– Господь с вами, – сказала она, – нет у меня денег на катание.
– Не надо денег, – сказал Отто. – У меня сегодня день рождения, поэтому катаю бесплатно.
Она, недоверчиво глядя, прижала к себе клетку с попугаем.
– Да, а потом выяснится, что надо платить.
Мы успокоили ее, и она села в машину.
– Зачем это вы купили себе попугая, бабушка? – спросил я, когда она выходила из машины.
– А для вечеров, – сказала она. – Как вы думаете, корм-то дорог ли нынче?
– Нет, – сказал я. – А что значит для вечеров?
– Так ведь он говорящий, – ответила она, посмотрев на меня выцветшими старческими глазами. – Будет хоть с кем слово перемолвить.
– Ах вот как… – сказал я.
После обеда явился булочник забирать свой «форд». Вид у него был унылый и сумрачный. Он застал меня одного на дворе.
– Как вам цвет? – спросил я.
– Подходящий, – ответил он, рассеянно взглянув на машину.
– Верх получился очень красивым.
– Действительно…
Он все мялся, не решаясь уехать. Я ждал, что он попытается оттяпать у нас еще что-нибудь на дармовщинку – какой-нибудь домкрат или пепельницу.
Но вышло иначе. Потоптавшись и посопев, он поднял на меня свои в красных прожилках глаза и сказал:
– Подумать только – всего несколько недель назад она сидела в этой машине жива-невредима…
Я слегка удивился, увидев его таким размякшим, и решил, что та бойкая чернявенькая стервочка, что была с ним последний раз, уже начала действовать ему на нервы. Ведь огорчения скорее делают людей сентиментальными, чем любовь.
– Она была очень славная, добрая женщина, просто душа человек, – продолжал он. – Никогда никаких претензий. Десять лет носила одно пальто. Блузки, кофточки там всякие шила себе сама. И все хозяйство было на ней одной, обходилась без прислуги.
«Вот оно что, – подумал я, – новенькая, стало быть, ничего этого не делает».
Булочнику хотелось выговориться. Он рассказал мне, какой экономной была жена. И было странно наблюдать, какой прилив умиления вызывали воспоминания о сэкономленных деньгах в душе этого завсегдатая пивной и кегельбана. И не фотографировалась-то она никогда, потому что берегла деньги. Так что осталась у него только свадебная фотография да несколько моментальных снимков.
Это навело меня на мысль.
– Вам бы надо заказать хороший портрет своей жены у художника, – сказал я. – Вот уж вещь так вещь – навсегда. А фотографии, что ж – они со временем выцветают. Есть тут один художник, который этим занимается.
И я рассказал ему о деятельности Фердинанда Грау. Он сразу насторожился и сказал, что это, видимо, слишком дорого. Я заверил его, что могу устроить ему это дело по сходной цене. Он стал отнекиваться, но я наседал, говоря, что если ему дорога память о жене, то расходы покажутся ему пустяковыми. Наконец он клюнул. Я позвонил Фердинанду Грау и предупредил его обо всем. А потом поехал с булочником за фотографиями его жены.
Чернявенькая выкатилась из булочной нам навстречу и забегала вокруг «форда».
– Красное было бы лучше, киса! Но ведь ты обязательно должен настоять на своем.
– Отстань! – раздраженно бросил ей киса.
Мы поднялись в гостиную. Чернявенькая последовала за нами. Ее шустренькие глазки успевали повсюду. Булочник стал нервничать. Он не хотел искать фотографии при ней.
– Оставь-ка нас одних, – наконец сказал он грубо.
Она удалилась, гордо выставив осанистую грудь, туго обтянутую джемпером. Булочник извлек из зеленого плюшевого альбома несколько фотографий и протянул их мне. Его жена в свадебной фате, а рядом он с лихо закрученными усами. Тут она еще улыбалась. И другая фотография: похудевшая, изможденная, с испуганными глазами, она сидит на краешке стула. Всего две маленькие фотографии – и вся жизнь как на ладони.
– Годится, – сказал я. – Этого ему будет вполне достаточно.
Фердинанд Грау принял нас в сюртуке. У него был солидный и торжественный вид. Все это составляло часть его деловой программы. Он знал, что для многих скорбящих почтение к их страданию важнее самого страдания.
На стенах мастерской в золоченых багетах висели парадные портреты, выполненные маслом, под ними – соответственные маленькие фотографии. Всякий клиент мог самолично удостовериться, что получалось из иной раз довольно смазанных моментальных снимков.
Фердинанд водил булочника вдоль стен, спрашивая, какую манеру он предпочитает. В свою очередь, булочник поинтересовался, находятся ли цены в соответствии с размерами изображений. Фердинанд объяснил, что цена зависит не от квадратного метра, но от проработанности произведения, после чего булочнику немедленно понравился портрет максимальных размеров.
– У вас хороший вкус, – похвалил Фердинанд, – это портрет принцессы Боргезе. Он стоит восемьсот марок. С рамой.
Булочник вздрогнул.
– А без рамы?
– Семьсот двадцать.
Булочник предложил четыреста марок. Фердинанд помотал своей львиной гривой.
– За четыреста марок вы можете иметь в лучшем случае головной портрет в профиль. Но никоим образом портрет до колен анфас. Тут двойная работа.
Булочник выразил готовность удовольствоваться головным портретом в профиль. Фердинанд обратил его внимание на то обстоятельство, что обе фотографии сняты прямой наводкой. И тут уж сам Тициан не смог бы написать профиль. Булочник покрылся испариной, на лице его было написано отчаяние из-за того, что в свое время он не оказался достаточно предусмотрительным. Он вынужден был признать, что Фердинанд прав: анфас состоит из двух половинок лица и, следовательно, здесь в два раза больше работы. Так что более высокая цена действительно оправданна. Его мучили колебания. Фердинанд до этого был очень сдержан, теперь же он принялся уговаривать. Его могучий бас покатился по мастерской вкрадчивыми волнами. Я в таких вещах знаю толк и могу сказать, что он работал безукоризненно. Да и булочник вскоре дозрел – особенно после того, как Фердинанд в красках изобразил ему, как подействует столь роскошное произведение на завистливых соседей.
– Ну ладно, – согласился он, – но при оплате наличными вы уж уступите десять процентов.
– По рукам, – сказал Фердинанд. – Десять процентов скидки и триста марок задатка – на издержки, связанные с приобретением красок и холста.
Начался новый раунд пререканий, но наконец обе стороны достигли взаимопонимания и перешли к обсуждению деталей. Булочник желал, чтобы на портрете были пририсованы жемчужное ожерелье и золотая брошь с алмазами, хотя их не было на фотографиях.
– Ну разумеется, – заявил Фердинанд, – драгоценности вашей жены будут изображены. Было бы лучше всего, если бы вы занесли их сюда на часок – чтобы можно было запечатлеть их во всей натуральности.
Булочник покраснел.
– У меня их больше нет. Они… я отдал их родственникам.
– Вот как? Ну что ж, обойдемся и так. Не похожа ли ваша брошь на ту, что изображена на этом портрете?
Булочник кивнул.
– Только не такая большая.
– Вот и прекрасно. Такой мы ее и изобразим. А ожерелье нам и вовсе не нужно. Ведь жемчужины всегда выглядят одинаково.
Булочник вздохнул с облегчением.
– А когда будет готово?
– Через шесть недель.
– Хорошо. – Булочник простился.
Мы с Фердинандом посидели еще какое-то время в мастерской.
– Неужели тебе потребуется на это шесть недель? – спросил я.
– Какое там. Дня четыре, от силы пять. Но ведь этому субчику правду не скажешь, не то он сразу примется высчитывать, сколько я зарабатываю в час, и почувствует себя обманутым. А вот шесть недель его устраивают. Как и принцесса Боргезе. Такова человеческая природа, дорогой Робби. Скажи я ему, что это швея, и портрет собственной жены уже не показался бы ему таким ценным. Кстати, это уже в шестой раз выясняется, что почившие в бозе женщины носили точно такие же драгоценности, как на этом вот портрете. Игра случая, что поделаешь. Неотразимого обаяния реклама – этот портрет славной Луизы Вольф.
Я огляделся. Неподвижные лица на стенах пристально смотрели на меня глазами, которые в действительности давно истлели. Это были портреты, не востребованные или не оплаченные родственниками. И все это были люди, которые тоже когда-то надеялись и дышали.
– Не настраивают ли они тебя на меланхолический лад, Фердинанд?
Он пожал плечами:
– Нет, скорее уж на цинический. Меланхолия возникает, когда думаешь о жизни, а цинизм – когда видишь, что делает из жизни большинство людей.
– Ну, иные все-таки живут по-настоящему…
– Конечно. Но они не заказывают портретов. – Он встал. – И слава Богу, Робби, что у людей есть эти мелочи, которые им кажутся важными, которые их поддерживают и защищают. Потому что одиночество – настоящее, без всяких иллюзий – это уже ступень, за которой следуют отчаяние и самоубийство.
Большое голое пространство мастерской заливали волнами сумерки. За стеной кто-то тихо ходил взад и вперед. Это была хозяйка. Она никогда не показывалась, если приходил кто-нибудь из нас. Она ненавидела нас, потому что думала, что мы натравливаем против нее Фердинанда.
Я вышел на улицу. Шумная сутолока ударила мне в грудь банным паром.
XI
Я шел к Пат. Впервые за все это время. До сих пор мы встречались всегда у меня или, когда мы куда-нибудь шли, она поджидала меня, около своего дома. И всегда все выглядело так, будто она заглянула сюда ненадолго. Я хотел знать о ней больше. Я хотел знать, как она живет. Мне пришло в голову, что не худо было бы прийти к ней с цветами. Это было нетрудно: городские скверы за ярмаркой зацвели пышным цветом. Я перелез через ограду и стал обрывать белую сирень.
– А вы что здесь делаете? – загремел вдруг надо мной раскатистый голос. Я выпрямился. На меня сердито смотрел мужчина с лицом цвета бургундского и лихо закрученными седыми усами. Не полицейский и не парковый сторож. Один из высших военных чинов в отставке, это сразу бросалось в глаза.
– Это не так трудно определить, – вежливым тоном ответил я. – Я здесь обламываю ветви сирени.
На миг мужчина потерял дар речи.
– А вы знаете, что здесь городской парк? – заорал он потом возмущенно.
Я рассмеялся.
– Разумеется, знаю! Или вы полагаете, что я держу это место за Канарские острова?
Мужчина позеленел от злости. Я испугался, что его хватит удар.
– А ну, немедленно вон отсюда, паршивец! – заорал он первоклассным казарменным басом. – Вы покушаетесь на общественное добро! Я велю вас забрать!
Тем временем я собрал достаточный букет.
– Да ты сначала поймай меня, дед! – поддразнил я старика, перемахнул через ограду и был таков.
Перед домом Пат я еще раз осмотрел свой костюм. Потом поднялся по лестнице, все время глядя по сторонам. Дом был новый, современной постройки – никакого сравнения с моим обветшалым помпезным бараком. На лестнице – красная дорожка, чего у фрау Залевски также не было. Не говоря уже о лифте.
Пат жила на третьем этаже. На двери красовалась внушительная латунная табличка: «Подполковник Эгберт фон Хаке». Я долго взирал на нее. Потом, прежде чем позвонить, машинально поправил галстук.
Открыла девушка в белой наколке и белоснежном переднике – не чета нашей косой Фриде. Мне вдруг стало как-то не по себе.
– Господин Локамп? – спросила она.
Я кивнул.
Она провела меня через небольшую переднюю и открыла дверь в комнату. Я бы не особенно удивился, если бы обнаружил в ней подполковника Эгберта фон Хаке при эполетах, поджидающего меня для допроса, – столь серьезное впечатление произвели на меня вывешенные в передней парадные портреты многочисленных генералов, мрачно уставившихся на меня, штафирку. Но навстречу мне своей красивой широкой походкой уже шла Пат, и комната немедленно превратилась в остров тепла и радушия. Я закрыл дверь и первым делом осторожно обнял ее. Потом вручил ей уворованную сирень.
– Вот! – сказал я. – С приветом от городской управы!
Она поставила ветки в большую глиняную вазу, стоявшую на полу у окна. Я тем временем огляделся в ее комнате. Мягкие приглушенные тона, немного старинной красивой мебели, дымчато-голубой ковер, пастельных оттенков занавеси, маленькие удобные кресла, обитые блеклым бархатом…
– Боже мой, Пат, как это тебе удалось найти такую комнату? – спросил я. – Ведь обычно комнаты сдают только с никому не нужной рухлядью да бессмысленными подарками, полученными ко дню рождения.
Она осторожно отодвинула вазу с цветами к стене. Я смотрел на ее узкий изогнутый затылок, прямые плечи и худющие руки. Смотрел и думал, что вот так, на коленях, она похожа на ребенка, который нуждается в защите. У нее были движения гибкого животного, и когда она поднялась и прижалась ко мне, то в ней уже ничего не осталось от ребенка, в глазах и губах опять появилось то выражение вопроса и тайны, которое свело меня с ума, так как я уже давно не верил, что оно еще есть в этом грязном мире.
Я положил руки ей на плечи. Было так хорошо чувствовать ее близость.
– Все это мои собственные вещи, Робби. Квартира принадлежала раньше моей матери. После ее смерти я отдала все, оставив себе две комнаты.
– Так, значит, это твоя квартира? – спросил я с облегчением. – А подполковник Эгберт фон Хаке проживает здесь на правах квартиранта?
– Нет, теперь уже не моя, – покачала она головой. – Мне не удалось сохранить ее за собой. От квартиры пришлось отказаться, а всю лишнюю мебель продать. Так что теперь я здесь сама квартирантка. Но что ты имеешь против старика Эгберта?
– Ничего. У меня лишь естественная робость перед полицейскими и штабс-офицерами. Я вынес ее со времен своей военной службы.
Она рассмеялась:
– Мой отец тоже был майор.
– Ну, майор – это еще терпимо, – сказал я.
– А ты знаешь старика Хаке? – спросила она.
Внезапно меня охватило недоброе предчувствие.
– Не такой ли это бравый коротыш с красным лицом, седыми усами да громовым голосом? Из тех, что любят прогуливаться в городском парке?
– Ага, попался! – рассмеялась она, посмотрев на букет сирени. – Нет, он высокий, бледный и в роговых очках.
– Тогда я его не знаю.
– Хочешь, я тебя с ним познакомлю? Очень милый человек.