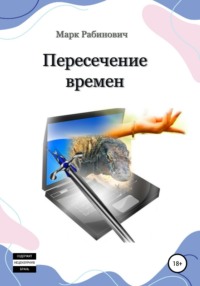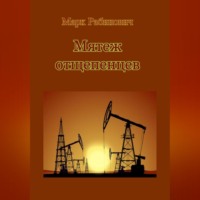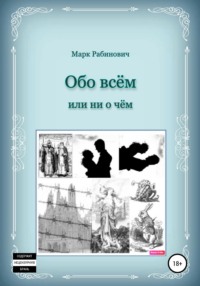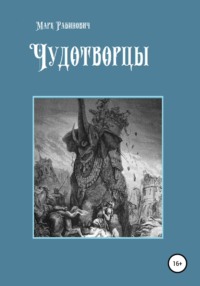Полная версия
Эпидемиологические рассказы
Звонок брата тоже не принес облегчения. Было не ясно, позвонил ли Давид сам, по собственной инициативе или его подвигнул на это отец. А может быть это была его серьезная миниатюрная жена и именно она и напомнила ему и подсказала, что именно и как говорить. В любом случае, Додик был поначалу неправдоподобно серьезен и столь же неправдоподобно неестественен.
– Ты держись, брат – вещал он – Этот карантин не навечно. Будет еще и на нашей улице праздник, причем семейный. Увидишь и нас с моей благоверной и спиногрызов наших. Родителей возьмем и завалимся куда-нибудь на природу. А ты притащишь с собой свою Тамару или кто там у тебя будет…
Ну явно кто-то пожаловался ему на отдаленные симптомы депрессии, то ли действительно прозвучавшие в очередном бессмысленном разговоре, то ли вымышленные не то отцом, не то матерью. В результате Додик был сейчас и ласков и предусмотрителен и вообще, сам не себя не похож. Но хватило его ненадолго.
– Ты знаешь – сказал он неожиданно – Я тебе немного завидую.
Брат сделал многозначительную паузу, но Вадим не собирался реагировать и тот продолжил:
– Ты не представляешь, как порой хочется побыть одному и отдохнуть и от спиногрызов и от их мамаши.
Давид был смешон в своем наивном желании поддержать старшего брата. Нет, он несомненно говорил искренне. Может быть ему и вправду хотелось одиночества, но недолгого, не бесконечного, очень хорошо контролируемого одиночества он жаждал. А ведь оторви его от его спиногрызов надолго, заскучает, затоскует и, не дай бог, зачахнет. Да и без своей благоверной он долго не протянет, как бы он ни клял порой ее занудство. По угрюмому молчанию брата Додик понял, что его раскусили, свел разговор к шутке, заерничал и начал рассказывать анекдоты про карантин, стремительно становясь самим собой. Вадим, со своей стороны, всячески его в этом поддерживал, тщательно смеялся немудреным шуткам, одобрил последнюю юмореску известного комика и вообще вел себя так, как будто в нем прорезался экстраверт. Похоже ему удалось успокоить Додика, тот расслабился и завершил разговор почти смешным анекдотом:
– Ты слышал? – сказал он – Индекс самоизоляции настолько высокий, что к Пушкину начала зарастать народная тропа.
Разговор уже давно закончился, а он все сидел тупо держа в вытянутой руке телефон и ему было бесконечно жаль самого себя. Даже безалаберному Додику было к кому прислониться в его вовсе не одинокой самоизоляции. Братишка мог поспорить, поскандалить, поссориться, разругаться, а потом – помириться. Как бы я хотел поругаться и помириться, подумал он. Но мириться, а тем более ругаться он мог лишь с самим собой. Можно, конечно, попробовать, у некоторых даже неплохо получается, но удовольствие не то. Вроде бы есть еще раздвоение личности, подумал он и полез в Интернет. Мировая сеть его разочаровала: при раздвоении личности как само эго так и альтер-эго поочередно сменяли друг друга в голове своего носителя и никак не способны были к какой-либо коммуникации, разве что – посылать друг-другу СМС-ки. Существовало еще диссоциативное расстройство идентичности, которое ему прекрасно подходило, но для его получения требовалась тяжелейшая душевная травма, желательно насильственно-сексуального характера, поэтому такое расстройство ему тоже не светило. Не было у него никакой душевной травмы, а была великовозрастная дурь на почве неправильно прожитой жизни.
Наверное именно поэтому он решил позвонить Толе. Анатолий был его сыном от раннего и недолго продержавшегося брака. Тогда, много лет назад, в прошлом веке, молодой и неопытный Вадим совершил типичную ошибку тинейджеров, приняв обычный гормональный всплеск за нечто большее. Такую ошибки совершают многие, не он первый и не он последний. Некоторым везет и выясняется, иногда сразу, иногда лишь с годами, что ошибка была не ошибкой, а щедрым и порой незаслуженным подарком судьбы. Ему же не повезло, и его ошибка так ошибкой и осталась. Вадимова избранница была не более искушенной чем он сам, о последствиях не задумывалась, и все закончилось появлением на свет Анатолия. Потом была недолгая семейная жизнь и мучительный развод, с плачем, истериками и скандалами. С тех пор прошло немало лет, его давешняя любовь была давным-давно снова замужем, Толя вырос в полной семье и Вадиму, казалось бы было не за что себя упрекать. Да и жил его сын в совсем другой, хотя и не такой дальней стране и говорил, надо полагать, на другом языке. Была и еще одна, не слишком приятная причина ни в чем себя не упрекать. Случилось так, что во время очередного скандала мать Анатолия гневно бросила ему в лицо:
– … И вообще, он не твой сын!
Был он тогда глупым и неопытным юнцом и принял это близко к сердцу. Много после, уже умудренный годами не слишком успешного опыта, он понял, что не следует верить разгневанной женщине, что бы у нее ни вырвалось в пылу гнева. А еще он осознал много лет спустя, что такие слова, неважно, правда это или нет, способна сказать лишь та, которая уже не надеется или не желает удержать мужчину. Потому что эти слова бьют по самому больному – по мужскому самолюбию – и никогда не будут забыты.
С тех пор прошло много лет и постепенно, год за годом, сын становился для него совершенно чужим человеком. И все же он иногда звонил Анатолию, но уже не в дни рождения и не на Новый Год, а в минуты душевной слабости и внутреннего разлада. И именно так, причем не минуту а много больше, он чувствовал себя сейчас. Этим и был обусловлен его звонок тому, кого он, несмотря на все происки других и собственные сомнения, считал сыном.
– Здравствуй отец – сказал Толик.
Он ни разу, за всю свою уже немалую жизнь, не назвал Вадима "папой" и им обоим это казалось правильным. "Папой" он, вероятно, звал другого человека. Сын говорил с легким, почти незаметным акцентом и это тоже было правильно потому-что поддерживало невидимую дистанцию между ними, которая нужна была каждому из них. Но сегодня был особенный день, день осмысления, день катарсиса, и поэтому он не раздумывая брякнул в телефон:
– А ты уверен, что я твой отец?
– Ты до сих пор не можешь простить маме эту байку? – рассмеялся Толик – Она давно призналась мне, что сказала это лишь из мести. Нет, даже и не надейся отмазаться.
Это прозвучало не слишком убедительно, но все же было приятно. Конечно, подумал он, такую пакость, такую мерзкую диверсию не аннулируешь одним голословным уверением, но все же приятно. И тут же Анатолий добавил ложку дегтя:
– … И все же я твой сын – уверенно сказал Анатолий – Вот только не пойму, что это меняет?
Действительно, не все ли равно, подумал он, мой он сын или нет. Он давно уже не принадлежит мне и, кроме некоторых черт лица, нет в нем уже ничего моего. Другой мужчина вытирал ему сопли, другой человек водил его за руку, другой отец сформировал его характер. И все же, разница была. Странная, неуловимая, неформулируемая разница существовала, и они оба понимали это.
– У тебя будет внучка – внезапно сказал Толик.
Внучка? Еще одно маленькое, крикливое и сопливое существо. которое будет учиться ходить, говорить и понимать мир вокруг себя. И ему будут в этом помогать отец и мать, бабушка и дед. Но это будет не он, а другой, хоть и не родной, зато настоящий, правильный дед, который всегда будет рядом и которого она будет звать: "Деда". А он останется в своей самоизоляции и для него это станет еще одним поражением. Он говорил еще какие-то очень правильные и ничего не значащие слова, пока не нажал "отбой" с внутренним облегчением. Вот только во рту остался медный привкус, как будто все время разговора он грыз телефонный провод.

Итак, чем стал для него этот карантин? А чем он был для других? Для многих он стал заточением, для иных – необременительным, хоть и принудительным, отдыхом. Для немногих же это стало периодом катарсиса, переосмысления. Для него же карантин стал символом краха и банкротства. Это банкротство было явным и очевидным. Его акции более не котировались, его вкладчики разбежались, а его счет в незримом банке духовности был обнулен, арестован и неплатежеспособен. Да, у него оставались родители, родственники и немногочисленные замоомые. Они могли позвонить, раскланяться при встрече, поговорить о погоде. Но это уже ничего не значило. Он, его мысли, его будущее, все это потеряло свое значение в том мире, который он раньше столь гордо презирал. Внешний мир слишком быстро от него отказался и это было обидно. Ну что же, он пообщался со всеми, с кем хотел, кого желал видеть на экране и каждая виртуальная встреча, каждый разговор, был поражением, сдачей позиций. А теперь сдавать было уже нечего. Не оставалось ни позиций, ни жизни. Да, жить-то оказалось незачем, да и сама жизнь не представлялась таковой. Она было до отвращения похожа на просмотр изрядно надоевшего, бесконечного сериала, который давно должен был закончиться, но все тянулся и тянулся вопреки всякой логике. И это все? Больше никого не не осталось в его маленьком мире. Теперь он совсем один. Твой дух мертв, мой друг, грустно констатировал он, но тело все еще живо. Что мне прикажете делать с ним, с этим телом? Оно требовало еды, требовало движения, удобств, развлечений. Будут тебе развлечения, подумал он и пошел в магазин.
Магазин радовал глаз. В нем все было по-прежнему, как будто и не тянулся никакой долгоиграющий кризис, как будто цены на нефть не неслись стремительно к ужасающе низким показателям. Дефицит куриных яиц тоже никак себя не проявлял. Впрочем, яйца его не беспокоили, как и многое другое. Да, магазинные полки радовали глаз, но не радовали сердце. Сердце же радовал лишь винно-водочный отдел, привычно пестрый и знакомый. Глаза столь же привычно разбегались и он решил довериться подсознанию, усилием воли запретив себе считывать цены. И действительно, подумал он, один раз живем, а конец света, – вот он здесь, за углом. Подсознание потребовало дорогого мескаля, простонародного "Киндзмараули" и упаковку какого-то неизвестного науке пива. Пестрый набор удивлял, но спорить с подсознанием не хотелось. На кассе сидела знакомая кассирша, которая не преминула бы укоризненно покоситься на разнокалиберные бутылки, а могла и задать вопросы невнятным, из-за защитной маски, голосом. Поэтому он предпочел кассу самообслуживания, которая, хоть и задает иногда вопросы, но уж точно не способна смотреть укоризненно. Касса его не подвела, вопросы задавать не стала и невозмутимо отстучала не слишком длинный чек.
– Это ты, брат, неплохо самоизолировался! – пробормотал он придя домой и глядя в зеркало.
Разговаривать с самим собой начинало входить в привычку. Все же, это лучше чем разговаривать с холодильником. Впрочем, если ты заговорил с холодильником, это еще полбеды. Много хуже будет, когда холодильник тебе ответит.
Холодильник начал отвечать в начале четвертой недели и после третьей бутылки сомнительного пива.
– Ну, ты хорош! – проскрипел он голосом Мойдодыра – Полюбуйся на себя!
Пришлось снова полезть в Интернет и освежить в памяти симптомы шизофреники. Номером первым там стояло утверждение, что шизофреники убеждены в своем душевном здоровье. Он же в этом уверен вовсе не был и это, парадоксальным образом, радовало. Все же он поинтересовался у холодильника не мерещится ли ему? Но нахальный электроприбор не соглашался отвечать на его вопросы, а вместо этого вещал то резким голосом отца, то спокойным – Тамары:
– Ну что, доволен? Упиваешься своим одиночеством? Лелеешь его? Только не надо валить все на карантин. Ты уже лет этак десять с лишним на карантине, вот только заметно это стало лишь сейчас. Ну, что ты молчишь? Тебе, что, сказать нечего?
Спорить с холодильником было глупо, но он все же решил попробовать. Впрочем, первая его реакция была, пожалуй, не самой разумной.
– Холодильники не разговаривают – заявил он.
– Вне всякого сомнения – согласился холодильник – Но ведь должен же с тобой хоть кто-то поговорить? А кто? Пушкин?
Долгие годы Вадим пытался понять, почему афро-российского поэта все время назначают крайним. Ведь материализуйся хоть малая толика таких, не слишком благих, пожеланий и несчастному Александру Сергеевичу пришлось бы годами засыпать траншеи тепломагистрали или нестись на ночь глядя в круглосуточный магазин за молоком для ребенка. Вряд ли Пушкину импонировала бы такая популярность. Все это он в деталях изложил холодильнику и, похоже, его аргументация оказалась убедительной, потому что холодильник промолчал, наверное – устыдился. Но четвертую бутылку пива Вадим решил на всякий случай не допивать.
Наглый холодильник оказался пророком и уже на следующий день появился неожиданный гость. Вадим как раз высасывал пятый стаканчик текилы, когда незнакомый голос, с заметным французским акцентом, произнес:
– А что это вы, сударь, предаетесь порокам в столь гордом одиночестве? Разумеется, и в пороках есть propre charme, но не следует ли соблюдать меру?
Пришлось обернуться. На краю дивана расположился странный тип в темно-зеленом сюртуке и полосатых панталонах со штрипками. Незнакомец, сидевший к Вадиму боком, имел густые бакенбарды и нахально задранный нос. Лица почти не было видно, но и такой малости оказалось достаточно, чтобы перестать считать его незнакомцем, ведь этот знакомый овечий профиль принадлежал не кому иному, как основоположнику современного литературного языка и солнцу русской поэзии. Покачивая ногой, обутой в лакированную туфлю, и держа в руках лоснящийся черный цилиндр и массивную трость с круглым набалдашником, перед ним сидел сам Пушкин, Александр Сергеевич. Классик отечественной литературы повернулся и продемонстрировал брезгливую гримаску на породистом лице. Его недовольство можно было понять, ведь после того как его застрелил гастарбайтер, поэту почти двести лет непрерывно предлагали закапывать теплотрассы и бегать ночью за молоком. Но сейчас его интересовало другое:
– А не поделитесь ли, mon ami, вашим ликером?
Пришлось налить Пушкину текилы.
– Необычайный вкус, mon cher, необычайный – ворковал поэт, пригубив – По цвету похоже на le Chartres, а по вкусу более на горькую наливку.
Классик оказался не дураком выпить и через минуту Вадим уже исследовал подозрительно молчащий холодильник на предмет закуси. Там обнаружилась открытая банка шпрот и недоеденные пельмени сомнительной свежести. Поразмыслив и решив, что давно умершему Пушкину никакие пельмени повредить не могут, он вытащил оба продукта на стол и добавил бутылку "Киндзмараули". Дар некогда братской Грузии пошел на ура, причем Пушкин называл его "кахетинским".
Любая пирушка, будь то распитие жженки в пригородном трактире, поглощение лафита в кондитерской Вольфа или совмещение текилы с кахетинским под засохшие шпроты на кухне холостяцкой квартиры, будет бессмысленна без горячих споров. И неважно, что именно будет предметом того спора: превосходство брюнеток над блондинками (или наоборот), достоинства дамасских клинков или скорость интернета. Важен сам процесс спора, подогретый некоторой толикой алкоголя. Вот и сейчас, изрядно залив текилу “кахетинским” и размахивая трехзубой вилкой с застрявшем на ней пельменем, основоположник требовательно вопрошал:
– Позволю себе поинтересоваться, чем вы, мой друг, тешите себя в этом отвратительном заточении?
– Ничем не тешу – мрачно ответил Вадим – Просто живу.
– Просто? – возмутился поэт – Просто живут лишь чинуши и юродивые.
– А вы чем тешились в Болдино? – он тоже пытался быть ехидным – Просто спасались от холеры, верно?
– Ничего ты не знаешь – мрачно отпарировал Пушкин, легко перейдя на "ты" – Неправильные ты. брат, книжки читал. Я вот в сием заточение накропал "Повести Белкина" и десятую главу "Евгения".
– Так ты же ее сжег?
– Не верь, брат, биографам! Ее сожгли совсем другие люди… Впрочем, мы отвлеклись… – его язык уже заметно заплетался – Нет ли у тебя, брат, еще бутылочки кахетинского? Только пиво? Но мы же не немцы, верно? Я как раз ничего против немцев не имею, взять хоть друга Вилю… Но мы снова отвлеклись… "Евгений", несомненно, дело доброе, но не подумай, что я безвылазно сидел в своем поместье. Нет, брат! Трижды я пытался выехать в Москву и трижды меня останавливали на рогатках… Вот такие дела… Трижды, ты только подумай! Но я не Святой Петр, я не отрекся! И попытался пробраться лесами… А там, брат, волки. Голодные – страсть, ведь дело уже к зиме… Спасла меня вот эта самая трость. Ты не смотри, что она неказиста. Не поверишь, в ней аж восемь фунтов свинца. Зачем, спросишь? А затем, что именно столько весит дуэльный пистолет. Руке, брат, следует привыкать, так, на всякий случай… Дантес, спрашиваешь? Кто же в столице не знает этого бездельника! А причем тут он?
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.