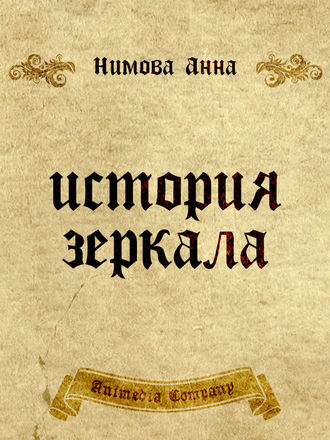
Полная версия
История зеркала. Две рукописи и два письма

Анна Нимова
История зеркала
(Две рукописи и два письма)
Пролог
Спешу, наконец, написать о давно ушедшем: ведь кто знает, сколько ещё мне суждено оставаться на этом свете… Брат Рене из Сент-Антуанского аббатства, вблизи которого я надеюсь провести остаток дней своих, уступил многочисленным просьбам и уже несколько месяцев в час краткого досуга от усердного служения Господу нашему обучает меня искусству письма. И теперь самая несказанная радость – видеть, как бестелесные мысли в моей голове обретают свою земную жизнь на этих хрупких листах. Хотя стоило ради этого тянуть почти шесть десятков лет? Не так уж и мало, мог бы выбрать дорогу покороче, Корнелиус…
Невинное приключение, выпав вам однажды, может послужить источником для всей жизни, и, если наполнится сей источник не радостью, но горечью и тоской, – всё равно един исход, вам придется испить его полностью, хоть это до конца дней лишит вашу душу малой надежды на успокоение.
Я точно знаю, что не искал приключений – они сами пришли за мной, я лишь послушно следовал неизбежному. Иногда я раздумывал, как сложилась бы моя жизнь, если бы не случился в ней тот вечер, много лет назад, или прислушайся я к наставлениям старших… «Никогда не заговаривай с незнакомцем!» – учил меня папаша Арно, конечно, он был прав… Но узнал бы я жизнь, как знаю сейчас? И самый главный вопрос: почему наш Господь всемилостивый захотел, чтобы я это знал? Сейчас я не верю в случайности. Тот вечер, когда в руках моих оказался сей незнакомый предмет, перевернул мою жизнь. Наверно, стоило отдернуть руку, но я доверился. Сначала глаза слепило острым лучом, а затем на дрожащей поверхности проступило бледное лицо, и мне сказали, что в нем есть я! «Колдовство, колдовство!» – шептал в ответ, так был поражен… Но и очарован. В памяти это осталось навсегда.
Годы прошли, прежде чем я смог осознать, что глупо жалеть о содеянном тогда и судить себя. Значит, не было на этом свете мне другого пути. Ещё порочнее – судить других. Нет, совсем не для того я решил учиться письму… Для чего же? Волосы твои, Корнелиус, давно потеряли цвет, морщин не сосчитать, глаза слезятся и с трудом различают буквы. А ведь был ты так же юн, как эти сорванцы, послушники аббатства, что во время мессы святой украдкой щипнут пальцем бок соседа и насмешничают, когда тот от неожиданности пронзительно вскрикнет. Но сколько же всего минуло с тех дней… И все эти годы ты хранил молчание, слова никому не молвил, что же теперь заставляет держать в руках перо, бумагу? Вопросы, вопросы… До сих пор помню, как начал их задавать, а вот откуда оно пришло, это желание знать… Воистину, озаряет нас свет небесный, когда просыпается желание познать неизведанное. Жизнь учила меня, но вот странно: чем больше я узнавал, тем меньше, казалось, я знаю, и тем больше вопросов рождалось. На многое мне был дан ответ, и по-прежнему смиренно я ожидаю, что Господь не сочтет мысли мои за дерзость и не оставит своей милостью.
Не решаюсь говорить об этом с братом Рене и другими братьями аббатства, опасаясь быть непонятым и лишиться их расположения. Но хочу оставить им эти листы и сказать на последней исповеди: пусть уж сами решат, как с ними поступить, сохранить ли в скромной своей библиотеке (в чем сильно я сомневаюсь) или положить со мной в могилу (что, скорее всего, и произойдет, так думаю).
О, искушение возвращаться в прошлое, где каждый твой день наполнен надеждой и потому обретает естественный смысл. Стереть бы эти проклятые годы, сделавшие из тебя немощного старца, медленно бредущего к последнему дню. Позволь мне, Господь всемогущий… Да святится имя твое… Да будет воля твоя… Уповаю на милость божью и приступаю.
Корнелиус Морассе1711 года, октября 21 дняАббатство Сент-Антуан, ПарижРукопись первая. История зеркала
1Десяток ливров – не бог знает какие деньги, некоторые тратят их на обед, а за меня столько платили в год, когда через десять лет после рождения мой родитель определил меня на постоялый двор к папаше Арно. Двор стоял в нескольких часах езды от Лиона, но не на прямой дороге в Париж, а надо было съехать немного в сторону. Всего – четыре невзрачные постройки, в самой большой из которых находилась таверна, в остальных можно было расположиться на ночлег и поставить лошадей на отдых.
Первое время на постоялом дворе я сильно тосковал, но потом привык и был не в обиде. Дети-то часто замечают все не хуже взрослых. Я уже тогда понимал, что родители мои бедны, троих детей им прокормить трудно, а тут, получается, и деньги хоть какие, и чей-то рот всегда с куском хлеба. Поэтому отец и не отказался от предложения Арно отправить к нему одного из сыновей. Брат был старше меня двумя годами и уже помогал отцу и матери в хозяйстве, так что решили отдать меня.
У папаши Арно и его жены собственные дети не появились, но были две племянницы, уже не вспомню точно их имен… Своим семейством они жили в комнате над кухней таверны, а кухней служил небольшой закуток за грубой занавесью, где выпекали хлебные лепешки, жарили свинину и разливали вино в кувшины. На кухне мамаше Арно помогала одна из племянниц, другая девчонка и я разносили нехитрое кушанье гостям, убирали со столов после трапезы. На ночь я уходил в домик напротив, а точнее сказать, это были просто небрежно поставленные стены, разделенные внутри кривыми перегородками, и низко надвинутая крыша. Там же лежали набитые соломой тюфяки и старые тряпки, чтобы при желании было чем прикрыться в холодную ночь. Зимой, спасая от холода немногочисленных путников, мы разводили огонь в нарочно сделанном углублении ровно в самой середине, я же оставался ночевать в кухне.
Добряком папашу Арно я бы не назвал. Чаще всего он был хмур, за пролитое в спешке вино мог дать хорошую затрещину, но особой злости в нем не чувствовалось. Хозяйство его было небогатым, но налаженным, конечно, кто при достатках, к нам не заезжал, но мелкие торговцы и ремесленники, отправлявшиеся на заработки в ближайшие города, наш постоялый двор знали.
Бывали вечера, в особенности летом, когда в таверне шумно садилась за ужин дюжина гостей, ночевали у нас и одинокие путники. Некоторых из них папаша Арно был рад видеть, мог подсесть к ним и расспросить о делах, но для меня разговоры с чужими были под строгим запретом. Много разных людей ходит, как знать, где – хорошие, где – плохие, а случись что – объясняй потом судье, удача, если удастся отделаться одним штрафом. Словом, мое дело – донести вино, не пролив ни капли, да убрать со стола поскорее.
В памяти мало что сохранилось о тех днях. Лишь помню – шли они однообразно друг за другом и были похожи словно капли воды, разве что летом теплое солнце золотило макушку, а зимой приходилось увертываться от порывов ветра, царапавшего ледяной крошкой. Но когда тебе одиннадцать или около того, и ты ничего не видел, кроме постоялого двора и соседней деревни, где временами навещаешь родных, как-то не думаешь, что может быть по-другому.
Летом день начинался с первыми лучами. Едва светлело небо, двор оживал, и посвежевший за ночь воздух вновь наполнялся пылью, когда постояльцы, перекрикивая друг друга, укладывали вещи, выводили седлать лошадей. Но были среди них и такие, кто желал остаться незамеченным и быстро исчезал, не притронувшись к завтраку, чаще всего, больше мы их не встречали. Украдкой наблюдая эту суету, я смутно сознавал, что все люди разные и за каждым стоит какая-то особая жизнь, весьма отличная от той, к которой привыкли папаша Арно или жители моей деревушки. Этим людям дано проснуться в одном месте, а уснуть в другом, – думал я, – сегодня они завтракают у нас, а завтра – за сотни лье отсюда. Мысль эта вызывала неясное оживление, но разум мой спал, пока я носил еду, мыл грубо сколоченные столы и собирал остатки со столов. Двор постепенно пустел, так же угасало мое оживление…
Поздней же осенью и зимой, когда из-за нескончаемых дождей и снега дороги становились труднопроходимыми, часто по нескольку дней мы не встречали ни одного человека. О чем я тогда думал, коротая долгие вечера на полу в кухне? О том, что какая бы ни была холодная зима, все равно ей придет конец, и вслед наступят весна и долгожданное лето. Вспоминал прошедшее лето, прозрачный свет, разливающийся ранним утром, и разноцветных птах, ловко перепрыгивающих с ветки на ветку – стрекоча между собой, они поворачивали головки в сторону восходящего солнца. Вспоминал, как юркие рыбки мелькали в ручье за домом, и воду его, такую холодную, что сводило руку, которая несла ведро. Так неспешна и проста была в то время моя жизнь, что, будучи ребенком, я о грядущем думал как о прошлом, словно глубокий старик.
Минул первый мой год у папаши Арно… За ним – второй. Время тянется, когда ждешь чего-то, когда ничего не ожидаешь, дни пролетают незаметно. В то время я ничего не ждал, и мыслям моим было покойно. Думалось мне: так и буду всю жизнь работником на этом дворе, а если даст Господь, со временем заведу свое хозяйство. Так же гулко стану приветствовать гостя, тяжело усаживаясь рядом, заведу разговор о видах на урожай, напоследок прошепчу злое словечко о приставах – опять без зазрения требуют новую уплату, хотя платили налог не далее как в позапрошлом месяце. Словом, как это делал папаша Арно, ибо я не видел перед глазами ничего другого… И не было мне тогда дано знать, что судьбой уже предначертана для меня другая дорога. Есть на этом свете человек, с которым уготовано встретиться, который с каждым днем подходит все ближе и ближе ко мне, и вот уже нет такой силы, что разведет нас в стороны и не допустит нашей встречи. Встречи, которая всего лишь через несколько лет решит нашу судьбу, ибо я казню его, а он казнит меня.
2Подходил к концу третий год жизни на постоялом дворе. Вспоминаю: осень 1665 выдалась на редкость сырой, пронзительно ветреной. Заморозков почти не было, от обильных дождей дороги совсем расползлись, и никто не стремился отправляться в путь в такую непогоду. Несколько дней кряду мы не видели ни души.
Дел оказалось немного. Племянниц папаша Арно отправил навестить родственников в деревню, сам же со своей женой был занят по хозяйству, я помогал им. В один из хмурых дней хозяин решил подправить дом, служивший для ночлега постояльцам, из-за своей старости тот уже давно накренился, угрожая однажды обрушиться прямо на головы спящих гостей. Помогая в работе, время от времени я посматривал по сторонам, и неожиданно поймал себя на том, что надеюсь увидеть путника, желающего получить еду и ночлег на ночь. Эта мысль удивила меня. Раньше, когда гостей становилось меньше или не было вообще, я был несказанно рад и предпочитал поспать, зарывшись в охапку сена или развлечься нехитрой игрой, складывая подходящие щепочки и разбивая горку ударом маленького камешка. А тут почувствовал себя как в первые дни у папаши Арно, когда грустил по родному дому.
Ещё раз оглядел знакомый до мелочей двор, видел его по многу раз, и вчера, и днями раньше – вроде всё то же, но вдруг проступило что-то новое, заставившее болезненно сжиматься. Неровные облака, переполненные влагой, от того тяжело нависавшие над размякшей землей, голые деревья с пустыми черными, как обуглившимися, гнездами давно улетевших птиц – все замерло, словно покоряясь неведомой воле, лишавшей их собственного движения. За открытыми настежь воротами виднелась размытая дорога, усыпанная обломками веток, и только прозрачная дымка крутилась над ней, единственно живая, сохранившая способность двигаться. Какая-то неприятная пустота подкрадывалась к нам, продвигаясь вперед шаг за шагом медленно, но неуклонно… Оставалось поглотить лишь эту дрожащую дымку.
Сквозь непривычную для себя задумчивость расслышал голос папаши Арно:
– Ну всё, на сегодня довольно, вроде как получше стало… До весны точно продержится. А там видно будет… Посмотрим, как доживем.
Не сообразив сразу, что он говорит со мной, я ничего не ответил, чем вызвал его удивление.
– Да, вижу ты, парень, замерз совсем. Собирай вещи, пошли скорее в дом.
В доме я согрелся, но ощущение пустоты не проходило. К вечеру почувствовал, что оставаться одному совсем тоскливо, и сказал, что хотел бы спать в кухне. Мамаша Арно равнодушно пожала плечами.
– Оставайся, кто тебе не дает… Да присмотри, чтобы печь не остывала.
Ночью, прижавшись спиной к теплой печке, я старался забыться сном, но никак не мог отогнать от себя унылую картину замирающих на долгие месяцы деревьев и дороги, укрытой густым холодным туманом. Словно кто-то нарочно прячет её на зиму, не желая, чтобы у нас нашли приют. И пройдут путники мимо, будут уходить дальше и дальше, другие люди их встретят, а вокруг нас по-прежнему будет кружиться эта нескончаемая пустота, – думал я, и беспокойство непрерывно теснило мою грудь. В ту ночь я не смог бы выразить словами, но теперь понимаю: причиной тогдашней грусти было нашедшее меня чувство одиночества.
Три последних года я жил среди нескольких взрослых, которым не было до меня никакого дела. Как и не было рядом человека, с которым мог бы сблизиться. Со мной редко говорили, а если такое случалось, слышал я не более десятка слов. Разговоры же с гостями, как уже упоминалось, были под суровым запретом. Но смотреть на гостей никто не мог запретить – это единственное, что оставалось, и с некоторых пор люди, в особенности новые, стали вызывать во мне любопытство.
В памяти моей всплывало грубое лицо торговца, удачно продавшего товар в Лионе, а в ушах стоял его оглушающий хохот, когда он рассказывал на всю таверну, как ловко сторговался с покупателем и выручил даже больше, чем ожидал. Случайные его приятели гоготали не меньше, пили за его здоровье, перебрасываясь грубыми шуточками, только вскоре разбежались. Сначала один вышел, облегчиться ему понадобилось, да что-то так и не вернулся, потом незаметно исчез другой, и пришлось торговцу с перекошенным от злобы лицом расплачиваться с папашей Арно за всю трапезу – так и утекли его легкие денежки. Ночью я слышал, как он ворочался за соседней перегородкой и в бессильном гневе сыпал такими проклятиями, что я под конец испугался, не вызовет ли сей мирный с виду человек самого черта.
Тот торговец был из знакомых, иногда заезжал к нам, но были другие гости, посетившие нас единожды и исчезнувшие навсегда.
Однажды со мной пытался заговорить монах, по виду – францисканского ордена. Вроде был тот монах ничем не примечателен: говоря о нем, и трех слов не наберешь. Я бы только смог сказать, что он невысок и вид имел угрюмый. Появился в нашей таверне вечером и сразу занял пустой угол, словно подальше от особого внимания. Посидев немного, монах без лишней надобности прикрыл голову капюшоном. И как раз к нему подошел папаша Арно.
– Что желает господин хороший?
Я стоял рядом с кухней и не услышал ответ, последовавший из-под капюшона, но заметил, как папаша Арно насторожился. Вроде он собирался спросить что-то, но, поколебавшись, громко крикнул:
– Эй, Корнелиус, воду и хлеб на этот стол!
Схватив ломоть хлеба и кувшин, я бросился вон из кухни. Когда я расставил скромное угощение, монах быстро глянул на меня, и я догадался, что смутило хозяина. Глаза монаха метались непрестанно, цепляли людей и предметы, но ни на чем не задерживались, скользили, загораясь беспокойным огнем, и, казалось, жили своей жизнью, отдельной от их хозяина. Уж не приступ ли лихорадки случился с ним в дороге, а может, что и похуже, – подумалось мне.
Я отходил от стола, когда что-то удержало край моей рубахи. Оглянувшись, увидел мелькнувшую руку монаха и ещё раз почувствовал на себе его скользящий взгляд.
– Я понял: тебя зовут Корнелиус. Ты давно живешь здесь?
Было в этом человеке нечто, заставившее меня остановиться. Говорил он глухим шепотом, но шепот звучал как последние раскаты грома после сильной грозы. Руки его не лежали спокойно, а без всякой надобности поправляли одежду, у меня мелькнула мысль, что неудобно монаху в этой одежде, и заметно она ему велика.
Не дождавшись ответа, монах зашептал снова:
– Давно здесь живешь? Верно, ты всех здесь знаешь?
Неизвестно, чем бы эти расспросы закончились, если бы папаша Арно не поторопился к нам подойти.
– Не сердитесь, мой господин, мальчишка этот мал да глуп, ему бы только поглазеть вместо того, чтобы работать… – и от звонкой затрещины у меня загудело в голове.
Благоразумным было поскорее убраться, что я не замедлил сделать. Прислуживая другим гостям, я старался не смотреть в угол, где оставил монаха, но чувствовал, как временами он посматривает на меня, и каждый раз, когда я против воли всё же поворачивался к нему, его беспокойные руки шевелились, словно делали мне знаки подойти.
Поев, монах продолжал сидеть молча, словно чего-то ждал. Сидел он сильно сгорбившись, опершись руками о стол, а его лицо совсем исчезло в капюшоне. Мне стало казаться, что он непременно хочет со мной говорить, и, верно, от этого я и сам сильно заволновался. Я то страшился наказания за нарушение запрета, то желал этого разговора, ведь до сих пор никто не обращал на меня самого малого внимания. От волнения у меня так задрожали руки, что добрая половина кувшина расплескалась прямо под ноги ужинавших. Увидев это, папаша Арно в ярости заорал на всю таверну, разговоры разом притихли, а странный монах будто очнулся от забытья. В величайшем беспокойстве он оглянулся, пытаясь сообразить, что произошло, потом как вспомнил что-то и потянулся к кожаному мешочку, болтавшемся у него на поясе. Бросив на стол мелкую монету, он, не говоря ни слова, пошел к двери, даже не спросив про ночлег, несмотря на поздний вечер. Это вызвало ещё больше удивления у папаши Арно: в те времена, как, впрочем, и сейчас, путешествовать ночью, да ещё одному, было делом не только неразумным, но и опасным. Однако удерживать его никто не стал…
Позже, уже собираясь идти спать, я слышал, как папаша Арно тихонько говорит жене:
– Сдается мне, и не монах он вовсе… Слышишь, Анна?
– Да, много лихих людей, такие времена, что и говорить, – только и сказала мамаша Арно, прибирая в кухне. Они были довольны, что столь подозрительный гость без лишних хлопот убрался со двора, и больше не заговаривали о нем. Я же ещё несколько дней вспоминал о его следящем взгляде, но потом успокоился.
В ту ночь я перебирал в памяти свои короткие встречи, и мне стало казаться странным, что одни люди словно наделены даром свободно выбирать себе дорогу, и дано им идти по ней. Опять я стал думать, что их новый день не похож на вчерашний, и сколько всего они смогут увидеть, узнать на своем пути, даже если это таит в себе некую опасность… А другие принуждены всю жизнь провести на одном месте… Сам ли человек решает, как жить, или ему дается знать? Верно, надо обратиться к Господу, чтобы наставил на нужный путь… Или человек всё узнает, когда приходит его время… Стараясь положить конец странным, как мне казалось, размышлениям, я шептал молитву, но сон всё равно бежал от меня. Первый раз в моей голове сложился вопрос, и не было ответа, который смог бы разом успокоить.
Далеко за полночь всё же начал дремать, когда увидел рядом с собой незнакомого мужчину. Я не слышал его шагов и не мог понять, как он очутился в кухне, спросонья решил: какой-то заблудившийся путник ищет ночлег до рассвета. Я уж было собрался крикнуть хозяину, но заметил бледный свет, разливающийся вокруг нас. Приглядевшись, увидел: свет тот исходит не от огня, успевшего к тому времени погаснуть, и не с улицы, коль скоро ночь, а от лица и рук мужчины. Тут я совсем очнулся и сообразил, что незнакомец никак не мог попасть в дом, ибо дверь заперта и въездные ворота тоже.
Душа моя наполнилась страхом, я чувствовал: не только крикнуть, слова вымолвить не могу, мужчина же продолжал стоять совсем близко от меня. Одет он был в темные одежды и выглядел человеком средних лет, хотя из-под круглой шапочки на голове выбивались совершенно седые волосы. Лицо его казалось скорбно и неподвижно, губ не размыкал, и скорее я почувствовал, чем расслышал голос, ему принадлежащий: В моей власти, Корнелиус, дать тебе ту дорогу… И более ничего не прибавил. От ужаса я закрыл глаза. Не могу точно сказать, сколько просидел, боясь пошевелиться, слушая удары, гулко бьющиеся в груди, пока, наконец, не послышались спасительные шаги с лестницы – это мамаша Арно спускалась в кухню, чтобы начать новый день. Открыв глаза и оглядевшись, я убедился, что мужчина исчез.
*****3Прошло ещё несколько дней – гостей по-прежнему не было. Взволнованный той странной ночью и необычным видением, я старался больше времени проводить вне стен таверны, ночевал в доме для гостей, а на кухню заглядывал с опаской – всё мне мерещился человек с седыми волосами. И хотя разум подсказывал, был он всего лишь сон, но слишком уж отчетливо запомнилось его обращение.
Выйдя одним ранним утром во двор, я увидел, что пронизывающий ветер, метавшийся по округе в последние дни, наконец, стих, а края неба окрашены бледно-желтым и розовым. День обещал быть солнечным, и я решил навестить родных прежде, чем выпавший снег скроет дорогу на долгие месяцы. Папаша Арно не особенно возражал, и тот день я провел дома.
Так Господь даровал мне видеть родителей, но не дал знать, что это наша последняя встреча… Много лет спустя я думал, как милостиво задумано создателем скрыть от нас будущее: кто знает, как бы мы распорядились своей жизнью, узнай всё наперед. Как бы я пережил тот день, зная, что нам не суждено больше свидеться? К счастью своему, я не ведал об этом.
Сумерки начали сгущаться, когда я возвращался на постоялый двор. Торопясь добраться, пока совсем не стемнело, я ускорил шаг, почти побежал, но внезапно остановился как вкопанный: мне почудилось, что на этой знакомой с детства дороге я не один, и из темноты прямо на меня надвигаются тени. Приглядевшись, я действительно различил сквозь деревья смутные фигуры – это были какие-то всадники, расслышал, как их лошади двигаются неспешным шагом, но голоса людей до меня не долетали, судя по всему, ехали они в глубоком молчании.
По мере того, как всадники приближались, стало возможным рассмотреть, что всего их семь человек, четверо наглухо закутаны в дорожные плащи, а лица прикрывали широкими полями шляпы. Трое же всадников лица не прятали, и даже надвигающаяся темнота не могла скрыть их важный вид, были они похожи на знатных особ, которых сопровождают слуги. Фигуры то скрывались за деревьями, то появлялись снова, но медленно двигались ко мне, встреча наша делалась неминуема.
В нерешительности я замер на дороге, не зная, что предпринять, ругая себя, что не успел вернуться к папаше Арно засветло.
Рано или поздно они заметят меня, и что хорошего может сулить такая нежданная встреча, – рассуждал я, – что может быть нужно знатным сеньорам в этом месте в столь неподходящий час? Для охоты время позднее… А если едут они по делу, то почему не торопятся, наступающая ночь настигнет их в лесу. Не найдя достойного объяснения, я не на шутку испугался. Ясно припомнился мужчина с седыми волосами, явившийся то ли во сне, то ли наяву несколько дней назад. Если людям здесь делать нечего, так, может, и не люди они, а принявшие человеческое обличие посланники Господа, отправленные нам за неведомые пока прегрешения, – подумалось мне, – а может, и не Господь их посылает…
Мысли кружились всё быстрее, и такой страх овладел мной, что, не справившись с ним, я сбежал с дороги и напролом через кусты, деревья, спотыкаясь, бросился прочь. Я надеялся, что смогу обогнуть всадников и, выскочив на дорогу позади них, добежать до постоялого двора, но совершил ошибку. Хруст ломаемых веток не мог остаться без внимания настороженно прислушивающихся ко всем шорохам, и, оказавшись опять на дороге, я понял, что меня заметили. Стараясь не оглядываться, я изо всех сил бежал вперед, но чувствовал, как всадники повернули лошадей и стали следовать за мной. Огромные тени почти бесшумно двигались за моей спиной. Окончательно уверившись, что они преследуют меня, я думал только об одном: как бы поскорее добежать до постоялого двора и выбраться из этой проклятущей темноты на свет. Губы мои пытались выговорить молитву, но слова мешались, ничего путного не выходило, и Господь, которого я отчаянно призывал, оказался бессилен помочь мне. К счастью, бежать оставалось недолго, и скоро впереди замелькали тусклые огни, едва освещавшие знакомые строения.
*****4Когда я вбежал на постоялый двор, уже совсем стемнело. Хозяева ждали моего возвращения и большие кованые ворота, обыкновенно запираемые на ночь, были ещё открыты. Задыхаясь, я всё так же бегом пересек пустой двор и распахнул дверь таверны. Папаша Арно, сидя за столом, доедал похлебку, его жена мыла тарелки возле кухни; услышав стук двери, они разом повернулись.
С трудом переводя дыхание и не в силах произнести ни слова, я повалился на стоящую рядом скамью, чем немало встревожил хозяев. Желания начинать рассказ о приключении на дороге не было, я сказал только, что поздно ушел из деревни, и очень торопился добраться, прежде чем наступит ночь. Мамаша Арно недоверчиво покачала головой.

