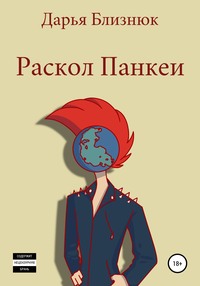полная версия
полная версияПроклятые убийцы
– Полно-полно. Хватит устраивать ролевые игры. Вам нужно успокоиться. Примите лекарство, – печально отозвался Психолог, протягивая ему пластмассовый стаканчик с набором разноцветных препаратов.
Пустыня не стал спорить, бунтовать, сопротивляться. Он устало проглотил все таблетки разом и улёгся на кровать, напевая песни собственного сочинения.
– Сутулюсь вороном и лунное пью снотворное… – лепетали обескровленные губы, но лепет этот больше смахивал на эхо, причём дальнее, слабое и угасающее.
Мюсли
Сие не только мы,
Сколь жизни скучный дар!
– Поль Верлен
Увидев, что Пустыня свернулся в позу запятой, Сальери поспешил к приятелю. Его, конечно, мало интересовали близкие, но, глядя на угнетённого парня, было невозможно всосать слёзы обратно в глаза.
– Привет. Я принёс тебе воды, – сообщил писатель, протягивая кружку с тем, чем поделился смеситель.
– Спасибо. Поставь, – глухо отозвался Пустыня.
Сальери повиновался. Сел в ноги и сложил пальцы домиком.
– Что-то стряслось? – спросил он.
– Нет, всё остаётся таким же непонятным и запутанным, как сны, – прошелестел парень в ответ.
– Да уж, в моей книге тоже сейчас всё заверчено, что не разобрать, кто кого любит, а кто кому мстит, – отшутился Сальери.
– А ты видишь всех своих героев? Ну, то есть насколько они для тебя плотны? – слегка приободрился Пустыня.
– Ах! – искренне обрадовался Сальери неподдельному интересу аудитории. – Для меня они дороже всего окружения. Они ближе. Они способны разделить моё экзистенциальное одиночество. Ведь ни один человек никогда не поймёт и не услышит тебя полностью. С персонажами связь крепче. С их помощью я могу транслировать свои эмоции, воплощать идеи, переживать опыт дантиста или риелтора. Книжный мир намного богаче и ярче обычного. В жизни всё, понимаешь, картонное и ненатуральное. Вокруг одни маски. Я как раз затрагивал эту тему в своём романе «Карантин», – не удержался от саморекламы Сальери.
– И как себя ощущают твои идеи? – облизнул обескровленные губы Пустыня.
– Вообще-то я не уверен, что знаю наверняка. Я наблюдаю за ними, веду их, но не диктую свою волю. Слыхал про импровизацию? Это когда человек пишет не задумываясь. Выплёскивает поток бессвязных ассоциаций. Вроде мысли-то его, но они самостоятельно забрались в голову, без его усилий. Может быть, он и не хотел думать о, скажем, ракете, сбившейся с курса, а картинка эта появилась на его воображаемом проекторе. Так и с моими книгами. Пишу я, и идеи мои, но они сами залезли в мой мозг сквозь глаза и уши. Пришли из ниоткуда.
– Что ж, у тебя дельные умозаключения, – закивал Пустыня, уже обсасывая кружку с водой так же, как туман облизывал окна.
Только, казалось, улицу заливала не мгла, а вазелин: настолько было липко, душно и влажно. Этот кисельный воздух сгустился даже в их комнатёнке.
– Отчего так вязко? – брезгливо скривился Сальери, расстёгивая воротничок голубой рубашки.
– От того, что я принял таблетки, – внезапно понял Пустыня.
– Какая связь между тобой и погодой? Не зазнавайся, мой джентльмен, – мягко приструнил его писатель.
Но Пустыня не вникал в его речи.
– Видимо, чем сильнее мутилось моё восприятие, тем плотнее становился воздух. Если я и дальше буду пить дурманящие лекарства, то воздух сможет посоревноваться с осмием.
– Ты о чём? – крякнул Сальери.
– Да так, – улыбнулся Пустыня. – Просто теперь я расставил все точки над «ё». Теперь я всё знаю. Теперь я смогу нас спасти. Очень скоро я вызволю нас отсюда, – пообещал он.
– Ох, какой же ты романтик! До сих пор витаешь в детстве и жаждешь приключений. Не спорю – лучше мнить что-то невероятное, чем течь в одном режиме с серыми буднями, – подмигнул Сальери.
Он гордился быть более просвещённым в области психологии. Ему нравилось выходить победителем из любого диалога, оставляя последнее слово за собой. Он раздувался от важности, когда оспаривал глупое мнение собеседника о себе, как бы принижая его личность, делая её более посредственной, заурядной и недалёкой.
– Да уж, этого у меня не отнять, – без обид согласился Пустыня.
Безумно можно через стены
Вот и стул смирился, как смирилась я
– Марселина Деборд-Вальмор
Анубис переводил дыхание. Конечно, не через дорогу и не с карты на карту, но всё равно переводил. Мышцы дрожали от расслабления, страх о собственноручном заточении не давал покоя. Зато улыбка Калигулы была шире экватора. Мужчина важно расхаживал вперёд-назад и довольствовался миниатюрными хоромами. Хоромами. Даже в этом слове есть что-то от похорон.
– Куда же мы будем мочиться? – спросил Анубис, прикрывая глаза цвета негров.
– Оставь эти грязные вопросы! Императоры не решают такие задачи! – всплеснул руками Калигула.
Анубис уже раскрыл пасть, но захлопнул её обратно, поняв, что любые возражения бессмысленны.
– А не думаешь ли ты, что заговорщики только этого и добивались: чтобы ты забаррикадировался, отрезав себя от воды, еды и клозета? И вообще, не жутко ли тебе оставаться наедине с Богом смерти? Я-то тебя люблю, но порой не контролирую свои поступки. Не исключай этот факт из своего внимания, – сменил он тактику.
– На что ты намекаешь? – резко остановился Калигула.
– На то, что ситуация похожа на хитрую ловушку, – абстрактно ответил Анубис.
– Уж не думаешь ли ты меня убить? Имей в виду, я тоже казнить умею, – понизил интонацию император.
– Я? Убить? Не за что на свете! – чересчур пылко выпалил Анубис, демонстрируя свою беспрекословную преданность.
– Тогда чего же нам опасаться? – продолжил тупить Калигула. – Весь мой гардероб на месте.
– Того, что мы можем не выбраться отсюда, – объяснил Анубис, словно рассказывал, как сервировать стол или как правильно загорать.
– А, – наконец, въехал император, однако остался равнодушным к происходящему. – И что делать? Ты ведь сдвинешь шкаф обратно?
– Боюсь, что моих физических способностей не хватит для повторного подвига, – понуро склонился парень.
– Как ты смеешь бросать меня на произвол судьбы?! – задыхаясь от обиды и возмущения, топнул посохом Калигула. – Ты обязан немедленно что-нибудь придумать! А то захотел нас своими руками угробить! – распылялся он.
– Тогда замолкни хотя бы на минуту! Не мешай мне шевелить мозгами, – прервав императора, рыкнул Анубис. Крохотная комнатушка сдавливала их с шести сторон. Казалось, что стены готовы в любой миг начать сближаться, неминуемо подкрадываясь к центру, с грохотом, с сыплющейся пылью, подражая ловушкам в пирамидах и гробницах. Ситуация пропитывалась абсурдом и выходила из-под контроля. Никаких лазеек не имелось, окно зашнуровывали прутья. Оставалось или крушить стены, или надрываться, тягая неподъёмный шкаф. Рядом с ним высилась гора красочной блестящей одежды.
– Поможешь мне толкать? – спросил Анубис, решившийся попробовать сместить двухметровую глыбу.
– Вот ещё, – тонко отозвался Калигула, словно девица, подпиливающая ноготки.
– Но пожалуйста, – с вопросительной интонацией перешагнул через гордость Бог смерти.
– Эх, что с тебя взять?! Вечно всю работу приходиться делать за тебя! – самодовольно проворчал император, но вместо того чтобы навалиться на шкаф сбоку, он распахнул его зеркальные дверцы и шагнул внутрь.
– Чего ты делаешь? – удивился Анубис, следя за тем, как пальцы друга внимательно изучают глухую стенку. Но ответом ему стало рыбье молчание. Парню ничего не оставалось, как повторить все действия за Калигулой: влезть в шкафное брюхо и истыкать перстами голую поверхность. – И что? – вновь гавкнул Анубис, но тут сам допёр до смысла происходящего. – А ведь точно! – вскричал он. – Мы ходим сквозь воздух, мы можем перемещаться в воде, так почему бы нам не пройти сквозь стены? Ведь основной-то принцип сохраняется!
Заключённые расслабили мозг, канув в поток вольных ассоциаций, отмели привычные условности и двинулись. О чудо! Они действительно раздвигали крепко обнявшиеся молекулы. Они напоминали картинки из мистических фильмов, где герои всасываются в зеркала. И вскоре они очутились в лапше коридора.
– Невероятно… – прошептал Анубис.
Персики
Как плоть моя грустна! И прочтены все книги
– Стефан Малларме
Пустыня выстраивал логическую цепочку из фактов и приходил к печальному энду. Если Психолог так свято убеждал его в том, что члены клуба анонимных убийц выдуманы, то ему следовало верить. Психолог – профессионал своего дела, авторитет. Но вся беда заключалась не в том, что Пустыню преследовали глюки, а в том, что он никак от них не отличался. Теперь всё стало прозрачным. Пустыня докопался до сундука с заветной истиной: он и сам был такой же галлюцинацией. Вот почему между ними не чувствовалось никакой разницы. Вот почему они так легко и беспрепятственно общались. Вот почему Пустыня так сильно их полюбил. Они – одного поля ягоды. Волчьи ягоды. Они – пули одного калибра. Они – побочки чьего-то больного воображения. Чьего-то гениального воображения.
Но, как обычно это и бывает, идея Пустыни эволюционировала. Она выросла из обычной убеждённости в более детальную и уверенную концепцию. Их клуб не мог возникнуть непроизвольно, его создавали нарочно. Прорабатывали каждую черту лица, каждую пуговицу ровно так же, как Сальери сочинял свои повести. Точно так же сочинили и их. Родили метафизически. А вот телесных оболочек у них нет, и, что еще ужаснее – никогда и не было. Они – всего лишь книжные персонажи. Персики. Бедные убийцы.
Пустыня не мог принять факт, что каждый его шаг определялся свыше. Первый шаг – признание. Второй шаг, третий… Пустыня не хотел подчиняться фатуму. Не хотел быть марионеткой. Но выйти из-под контроля творца казалось невозможным. Что если даже его прозрение было задумано им? Даже его бунт вовсе не бунт, а рассчитанное действие? От смятения парень не знал, чем себя занять. Он дёргался, как сломанный робот, прерывая инерцию. И чем дальше заходили размышления гитариста, тем безнадёжней становилось будущее. Что если этот некто перестанет писать? Время остановится? Пустыня исчезнет? Исчезнет Жиголо? Исчезнет Анубис? А что если какая-то часть рассказа забудется, выскользнет из памяти, как мыло из скользких рук? А если положат закладку? А если его кожа бумажная? Его зубы бумажные, его ногти бумажные, его душа – и та из бумаги… О нет, он был не проклят. Он был проклят.
Всё тело онемело разом, ноги затекли, а уши заложило, как при взлёте самолёта. Должна же быть хоть какая-то спасительная соломинка. Эх, сейчас бы оказаться в чужом глазу – там не только соломинки найдутся, там брёвна отыщутся. Но вот только за что ухватиться? Что там говорил Сальери? Мысли возникают из ниоткуда? Идеи неподвластны его желаниям? Неужели это крошечный намёк на самостоятельность?
Пустыня тотчас уцепился за него, согрел в своём кармане и даже успокоительно застыл, словно, двигаясь, мог рассыпать крохи свободы.
Неожиданно в воздухе образовались, словно злокачественная опухоль, Калигула и Анубис.
– Ах, я так глубоко погрузился в мысли, что не заметил, как вы заглянули, – спохватился гитарист, на что Анубис махнул рукой, как бы утешая и бормоча: «Ничего-ничего, всё в порядке». – Только мне нужно вновь устроить собрание. Давно мы не проводили терапевтических групповых встреч, – вздохнул Пустыня.
– Ого, по какому поводу? – будто издалека спросил Калигула.
– Мну нужно кое о чём вам поведать, – угрюмо отозвался парень, проверяя крохи свободы в своём кармане.
Нет, он не создаст панику, он оставит им надежду. И всё будет хорошо. И они будут тоже. Непременно будут…
Околотрупные воды
Насилуют того, кто их обременил
– Артюр Рембо
Жиголо прекрасно знало, что такое стокгольмский синдром: жертва бессознательно привязывается к насильнику, дабы смягчить полученную травму. Она защищается от осадков в виде страха и мучений с помощью симпатии. Она привыкает к тирану, привязывается к нему, как собачонка к хозяину, понимая, что другого выбора не остаётся.
Жиголо чем-то очень походило на эту собачонку. Жиголо заменяло осадки в виде тревоги и опасений на осадки в виде лёгкой влюблённости. Ведь Пустыня, в сущности, неплохой человек. Харизматичный. Вежливый. А про нож можно забыть. Главное, что он харизматичный и вежливый. А про то, что он некогда расстрелял обречённых поклонников на своём концерте, можно забыть. Главное, что он вежливый и харизматичный.
Жиголо никогда ещё не встречало осадков в виде любви. Падающих с неба розовых сердец, воздушных, словно клубничное желе. Оно никогда раньше не вожделело. Не фантазировало о робких прикосновениях. Не подбрасывало игривых записок. Но оно опережало сверстников. Ему пришлось повзрослеть намного раньше, потому что у него была миссия – нести людям добро и свет. Услаждать тех, кто обречён. Кто закован в инвалидное кресло. Кто скручен, как винтажный узор. Поэтому в семнадцать лет у него перестали течь месячные. Его подростковую матку оплодотворили. В его яйцеклетку попала комета сперматозоида. Потихоньку оно раздулось, как резиновый шарик, накаченный гелием перед первым сентября.
Тогда Жиголо завертел ураган страха. Что подумают люди? Что если его чрево выплюнет плод раньше срока? Что если оно не готово для родов? Что если кожа растянется и обвиснет, как мятая салфетка? Что если порвутся мышцы живота? Что если оно умрёт? И самый ужасающий вопрос: что скажет мама?
Конечно, мама обрадовалась и посчитала своего отпрыска второй Святой Богородицей. Конечно, мама категорично отвергла мысли об аборте. Конечно, мама создала благотворительную организацию с дурацким лозунгом «Мы в ответе за тех, кого зачали».
Конечно, Жиголо боялось себя. Конечно, у Жиголо развилось обессивно-компульсивное расстройство. Что если оно опрокинется животом на табурет? Что если оно спровоцирует выкидыш? Что если оно уничтожит будущего инвалида? Жиголо привыкло называть себя «хорошее», но оно чётко понимало, что способно на убийство. А на это способно только «плохое».
Малыш словно догадывался о мыслях мамочки, и потому выкатился из его лона на два месяца раньше положенного. Он причинил почти невыносимую боль мамочке. Жиголо даже слышало скрип, с которым раздвигались его тазовые кости. Благо младенец не успел набрать в массе. Не успел окрепнуть. Но оказался живучим, как цветок пустыни. Он очень расстроил мамочку (вернее, раздвоил, но слово «расстроил» использовано в переносном смысле).
И Жиголо стали преследовать осадки в виде грудного молока. Осадки в виде крика. Душераздирающего визга, словно в их квартире находилась скотобойня. Однажды ночью Жиголо взяло подушку и направилось к детской люльке. Оно набросило ворох перьев на своего телёночка, словно сачок на бабочку. Оно навалилось на белое облако сверху и давило до тех пор, пока облако не перестало пульсировать и тюкать. Оно убило своего малыша подушкой. Её более прохладной стороной.
Жиголо знало, что некоторые младенчики умирают во сне без веских на то причин. Теперь вместо телёночка в люльке валялся кукольный трупик, который можно положить в коробку из-под обуви и захоронить, как старого кота. К сожалению, похороны прошли официально, с церемонией, слезами и родственниками в чёрном.
Теперь Жиголо душила вина. Оно расквиталось с тем, кого могло полюбить больше жизни. И сожаление не давало заснуть посильнее крика. Оно могло испытать самую близкую на свете связь. Оно могло вязать пинетки и кофточки. Оно могло купаться в тепле и умиротворении, но вместо этого оно просто удушило своё чадо. Оно плохое, очень плохое Жиголо. Его невозможно простить. Его невозможно понять. Оно обречено быть растерзанным совестью. Когда-нибудь оно не выдержит. Когда-нибудь колокольчик дзинькнет, и опустошённый бокал разобьётся, как розовые очки. Потому что Жиголо не связало ни одной кофточки. Жиголо казалось, что всё не по-настоящему. Что реальность призрачна и неустойчива. Что ею можно баловаться, как вздумается, ведь впереди всех ждёт лаковый шестиугольник. Жиголо глядело на мир в долгосрочной перспективе, и потому всё мерещилось слишком маленьким и слишком неважным.
***
– Пустыня хочет сделать объявление в нашем зале, так что поторопись, – отвлёк его от размышлений голос Сальери.
– Иду, – загипнотизировано повернулось Жиголо и пошаркало на свой стул, царапающий белый паркет.
– Все подтекли. Отлично, – констатировал Пустыня, завидев ползшее Жиголо. – У меня срочная, даже экстренная новость. Дело в том, что мне открылась важная тайна: все мы – не более чем чья-то фантазия. Мы живём в плоскости сновидений, в плоскости эфемерности.
– О чём ты? – схватил шар воздуха Калигула.
– О том, что мы нематериальны. Вот ты. Ты же видишь Секспира, так?
– Так.
– Но, кроме тебя, его больше не видит никто. А ты, Сальери? Ты же общался с Памелой? Как же тебе удалось повстречаться с книжной героиней? Уж не потому ли, что вы оба помещены на книжных страницах?
– Прекращай, Пустыня. Это же полный бред! – мягко влез в дискуссию Анубис.
– Не смей меня упрекать в бреде! – уязвлённо отреагировал Пустыня. – Наоборот, я впервые прозрел. Всё сошлось. Мы все – литературные персонажи. Я осознал это, когда беседовал с Сальери.
– И что в этом плохого? – моргнул Мама.
– То, что нами управляют. Мы не распоряжаемся собой. Мы лабораторные крыски, – низко прошипел ведущий.
– И что? – опять икнул слабоумный парень.
– Ах, то, что мы не можем выйти за пределы чужой головы! Мы заключены в этой квартире, как в тюрьме. Мы можем лопнуть, как пиньята, в любой миг, когда о нас забудут. Время может замереть, когда прекратят писать. Когда страницы, словно ляжки, зажмут закладку: будь то чек или этикетка, бонусная карта или глянцевая лента.
– Пустыня, не всё так мрачно. Даже если ты прав – помни, что мысль приходит извне. И также гладко она может проскользнуть мимо сознания. Ни один человек не способен контролировать мысли. Это глупо. Люди способны лишь наблюдать их, – произнёс Сальери.
– Да. Да, – устало согласился Пустыня. – Но ведь мы всего-навсего персики, и очень скоро нас начнут поглощать. Очень скоро нами будут чавкать. Очень скоро нас будут жевать, и сок будет стекать по подбородкам…
– Ты о чём, Пустыня? – осторожно накрыло своей ладонью его пясть Жиголо. На ощупь она была мягче одноразовой прокладки. Мягче ватного диска. И горячей раскалённой подошвы утюга. – Да у тебя жар! Тебе надо прилечь, – засуетилось оно.
– Да, ребята, перенесём Пустыню на диван, – оживился Анубис, обхватывая его за торс сзади. – Пошли, Пустыня, пошли, – ласково ворковал он, пока Жиголо отлучилось прополоскать марлю в холодной воде. – Так-то будет лучше, – разгибал колени Пустыни Анубис. – Ты просто захворал. Это нормально – такая сырость, – пошутил он.
Жиголо молча расправило повязку на лбу больного и опустилось рядом.
– Спасибо, – пробормотал Пустыня, но Жиголо услышало «извини».
Детский дом
Лететь навстречу катастрофам —
Вот наш от бури оберег!
– Артюр Рембо
После выступления Пустыни Сальери ощутил себя важным и относящимся к более высокой касте. Ведь война разворачивалась на его поприще. Он мог комментировать происходящее. Мог развеивать сомнения товарищей стройной аргументацией. Он занял кресло кого-то вроде гуру или духовного наставника. К нему обращались. Перед ним затаивали дыхание.
– Скажи, это правда, что мы лопнем, как мыльный пузырь?
– Это правда, что время застынет?
– Это правда, что мы – марионетки?
– Дорогие мои! Наивно рассчитывать, что мы оказались в менее выгодном положении. Нам с вами не о чем беспокоиться. Не стоит пытаться что-либо исправить. Лев не мечтает быть уволенным из зоопарка. Предположения, что лев страдает в клетке, – романтизированы. Лев даже не знает, какого это – быть свободным. Быть охотником. Быть повелителем прайда. Быть убийцей. Никто не может грезить о том, о чём даже не подозревает. Слепой ничего не знает о красках, поэтому и не огорчается, что не может их узреть. Так и нам с вами не о чем париться о плоти, потому что физический мир также зыбок. Также мимолётен. Также сжат до границ понимания. Также существует лишь в нашем восприятии.
– Верно, – как болванчик, кивало Жиголо. То, что находилось на шее, так и подпрыгивало вверх-вниз.
– Как мудро! – соглашался Анубис с широко распахнутыми глазами то ли цвета чая, то ли цвета негров.
Пустыня пока отлёживался. Веки его сжимались так плотно, что брови съезжали на этаж ниже. Калигула выглядывал за решётку, и только Мама где-то пропадал.
Его пропажу заметили не сразу, потому что и его присутствие не замечали. Мама обычно отмалчивался, не шумел и не буянил. Если он и возникал, то либо с рёвом, либо с блевотиной, но такое случалось редко. Сидел скромно в уголке и секретничал с Олегом, своей болезнью, о танатофобии или ещё о чём-нибудь заурядном.
Сонное бормотание Пустыни порядком надоело, и к нему решили подослать козлика отпущения, но того не оказалось ни под рукой, ни под ногой, ни в других комнатах.
– Мама, ау! Ты где? – как в лесу, вопило Жиголо, но что-то пословица, звучащая «как аукнется, так и откликнется», не работала.
– Где его только черти носят? – злился Калигула, всматриваясь в тревожные морщины Пустыни.
Тот обливался потом и даже дёргался, как эпилептик.
Сальери и остальные перерыли весь дом, но так и не нашли ни Маму, ни признаков его наличия. Он пропал, как второй носок. Как аппетит в террариуме с личинками или жирными тараканами.
– Как это можно объяснить? – испуганно обратилось к Сальери Жиголо.
– Не знаю, но я сомневаюсь, что пророчества Пустыни начали сбываться, – ответил Сальери и на практике узнал силу слов, вырванных из контекста. Компания, словно эхо, подхватила лишь кончик фразы: «…пророчества Пустыни начали сбываться…»
– Чем это обусловлено? Как застраховаться самому? Может быть, его специально замочил кто-то из нас? – уже трезвонил, как мигалка скорой медицинской помощи, Калигула. Жаль, что не помощи душевной.
– Чего вы разгалделись? – прожевал подушку гитарист.
– Ох, ты очнулся, – подскочило к нему лопоухое Жиголо.
– Да, только никак не возьму в толк, что за возня у вас творится? – вполне нормально проговорил парень.
– Мама исчез, – вздохнуло Жиголо.
– Что?! – как обожжённый, подорвался Пустыня, взметнув простыню.
– Ты всё слышал, – буркнул Сальери.
– Да, но как… Как именно он исчез? Каким образом?
– Если бы мы видели! – возвёл руки к потолку писатель.
– Плохо дело. Всё-таки мам надо беречь. Ушёл Мама, и психиатрическая лечебница превратилась в детский дом. Из которого нам, между прочим, нужно поскорее сматываться, – нахмурился музыкант.
– А всё-таки судьба иронична! – заметил Сальери. – Наш Мама так боялся умереть и оказался первопроходцем в небытие, – усмехнулся он.
– Скорее всего, оно и к лучшему, – слабо ответило Жиголо. – Теперь его страх исчез. Дети тоже боятся в приёмной, ожидая сдачи крови, но как только их разок укололи, расслабляются и перестают нервничать. Так и с Мамой. Теперь к нему снизошло долгожданное облегчение, и в этом нет ничего грустного.
Клубок
Устав от комнаты с больничною кроватью
– Стефан Малларме
Небо было синее, как глаза Александра Шепса. Вены были синие, как краска, в которую выкрашивают подъезд. Все были бледными, как барышни, обсыпанные мукой. После таинственного исчезновения Мамы все растерянно шлёпали по полу, и Пустыня видел, как их клуб превращается в клубок интриг.
– Нам нужен план бегства. Если вы хотите выжить, то обязаны отсюда слинять, – холодно подытожил он. – У кого-нибудь есть версии побега?
– Это тебе не роман Стивена Кинга, – смуро отозвался сгорбленный Сальери. Его рубашка напоминала оттенок вен.
– Разве мы сидим под замком? – изумилось Жиголо. – Я считало, что мы можем спокойно улепётывать из квартиры. Помните, как заглядывали в кафе? Или как гуляли в палисаднике, складывая Боинги из бумаги?
– Не спеши принимать желаемое за действительное. Мы ни разу не выбирались из лечебницы, – обрубил крылья Пустыня.
– Лечебницы? Серьёзно?
– Ваше сознание искажает реальность. Вместо грязных полов и тесных палат, утыканных койками, вы видите частную квартирку. Но в действительности мы в психушке, которая символизирует башку какого-то придурка, который сочинил вот эту дребедень про нас. Зачем, зачем он сотворил из меня убийцу? Почему он вам продиктовал такие скверные грехи? – задыхался парень.
– Остынь, – посоветовал Анубис, хотя его голос дрожал, как руки, охваченные тремором.
– Чего греха таить. Сейчас мы все на взводе, – поддержал его Сальери. – У меня такое ощущение, словно внутри тикает взрывчатка, которая может пукнуть в любой момент, – пошутил он.