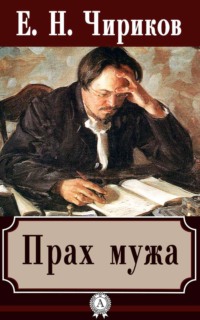Полная версия
Зверь из бездны

Евгений Чириков
Зверь из бездны. Поэма страшных лет
Посвящаю эту книгу братскому чешскому народу
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Вступление
Настанет некогда время, и взбаламученное море нашей жизни войдет в свои берега. Закроются разверзшиеся бездны, смолкнет грохот и ржание бешено мчащихся коней с красными и белыми гривами, пронесутся вихри черных туч над пучинами, потухнут огненные мечи раздирающих гневные небеса молний и прокатятся в вечность раскаты громов… И небесная синь снова сверкнет своими улыбками людям, а успокоившееся зеркало прозрачных глубин снова отразит Лик Божий…
Не скоро, но будет. Непременно будет!..
Пройдет сто лет – не останется на земле ни одного из нас, живущих в грозе и буре. Все пережитое нами, воплощенное в радостном творчестве под пером художников слова и под кистью художников красок, будет с непреоборимою силою притягивать к себе умы и души грядущих поколений, и они в «Великой русской революции» увидят только величественную и захватывающую поэму человечества, рождающую в них сожаление, что все это давно уже миновало, и зависть к нам – к тем, «кто посетил сей мир в его минуты роковые» [Строка из стихотворения Ф.И. Тютчева «Цицерон» (не позднее 1830 г.)]. Даже наши муки, наши страдания, если еще и будут заметны за пеленою многих годов, покажутся потомкам нашим страницами прекрасной трагедии, возвышающей душу человеческую. И не один читатель пока еще не написанных книг о днях нашей жизни, посиживая в теплом и светлом кабинете в долгий зимний вечер, оторвавшись от чтения, застынет в раздумье, с устремленным в туман прошлого взором, и, вздохнув, мысленно скажет: «Ах, зачем я не жил в прошлые века!»
Но будущее строится на костях настоящего, и цемент на постройке – кровь людей. Дорога в будущее идет в горных теснинах, крутая и узкая, и продвигающиеся по ней – кто сам падает, кто других сбрасывает в пропасть под ногами. Только из будущего в прошлое можно смотреть с высоты орлиного полета, спокойно озирая прошлые судьбы человеческие. Только прошлое можно судить. Настоящее же охватывает нас со всех сторон, мы – не над ним, а в нем, и мы – не судьи, а лишь свидетели о нем. Свидетели живых мук и страданий, в которых ломается настоящее, насыщенное такими ужасами и преступлениями, от которых у нас порою проходит самое желание жить…
Занося в свою художественную летопись правдивую историю о том, как люди жили, ненавидели и любили в наши страшные годы, я не выхожу из рамок свидетеля о настоящем. Все, что здесь описано, я либо видел, либо пережил. Роман мой – сама жизнь. В нем мало выдумки и сочинительства. Жизнь превзошла искусство и оставила далеко позади нашу авторскую изобретательность. Ни придумывать, ни сочинять нам, современным авторам, уже нечего: жизнь сама стала величайшим автором, преступившим все установленные нами законы и формы литературного творчества. Естественно поэтому, что и роман мой носит отпечаток того хаоса обломков, вещественных и невещественных, среди которого мы живем и действуем…
Итак, читатель, знай и помни, что роман мой – сама жизнь, а я, автор настоящего произведения, – не судия, а свидетель и не историк, а только живой человек, испивший из чаши мук и страданий русского народа.
Евгений Чириков
Прага – Вшеноры. Май – Август 1922 г.
Часть первая
Глава I
Уже потемнели небеса и затеплились лампады в горних высотах, рождая мириады сверкающих по снегу голубых и зеленоватых искорок, когда поручик Владимир Паромов пришел в сознание и, приподнявшись на локте, широко раскрытыми глазами стал оглядываться, стараясь припомнить и понять, где он и что случилось… Острая боль в ноге при попытке изменить положение напомнила ему: он ранен и брошен… Ну вот и конец!.. Странно, что в первый момент не родилось от этого сознания никакого ужаса, страха или страдания. Напротив, облегченный вздох вырвался из его груди, словно он донес, наконец, непосильную тяжесть до предназначенного места и теперь освободился навсегда. Навсегда!
Смотреть каждый день в лицо смерти и ждать ее – о, это гораздо страшнее самой смерти. А все эти последние бои, длившиеся подряд несколько дней, иногда – не обрываясь даже ночью, были сплошным, ежечасным, ежеминутным ожиданием: «Вот сейчас! Вот сейчас и я». Уже было это неизбежным и предрешенным, и только неведомо было, сколько дано сроку. И хотелось, чтобы случилось это немедленно. Может быть, именно муки этого ожидания и заставляли Владимира обнажать изумлявшую всех храбрость, проявлять геройскую неустрашимость и лезть прямо на огонь. И в последней схватке, когда рота Владимира дрогнула и цепь порвалась и начала расплываться по снежной степи, он не побежал, а, припав на колено, продолжал стрелять в лавой мчащуюся кавалерию… «Вот она смерть!» – успел еще подумать Владимир, видя пред собой лошадиную голову с сверкающими белками глаз. И потом мир исчез. И вот теперь снова, точно по какому-то сверхъестественному волшебству, словно в детской сказочке от живой воды, глаза раскрылись и в далеких тихих небесах встретились с глазами Божьими. Значит, – он жив и все еще впереди ожидание? Но почему же они его не добили? Очевидно, сочли мертвым. В плен уже не брали: некогда возиться с человеком. Да и не сдавались, предпочитая умереть без пыток и глумлений, от собственной пули.
Мертвенно тихо в степи. Точно снежное море, без конца, без края. Над вырисовывающимся вдали холмом-могильником, с головы которого ветер смел снежный покров, всплыла луна на ущербе и облила снежную степь мертвенно-зеленоватым серебрящимся светом. Точно огромный гроб в громадном храме под куполом, прикрытый серебряным парчовым покровом… Такое страшное жуткое молчание! Точно весь мир погиб, вымер, и остались только одно это бесконечное белое молчание и вот еще он, поручик Владимир Паромов… Владимир прислушивается к белому молчанию: кажется, что где-то на небе грустно и мелодично звучит чуть-чуть тронутая струна гитары. Может быть, это поет где-нибудь телеграфная проволока… И вдруг в белом молчании, прорезаемом грустно поющей струной, прозвучало стоном слабое такое и короткое:
– О Господи!
Владимир весь содрогнулся и, пренебрегши болью в ноге, сел и стал озираться вокруг. Это было так неожиданно и странно. Может быть, это сам он, Владимир, сказал: «О Господи!»? Так бывает иногда с пробудившимися от сна: сами скажут и от собственного голоса пробудятся.
Владимир лежал в логу, складкой протянувшемся по степи. Со стороны изголовья – волнистая снежная складка закрывала ближайшую перспективу. И вот оттуда – это теперь было уже ясно – снова донесся тихий такой, покорный плач человеческий. Так плачут больные в бреду. Не то по-детски, не то по-старчески. Потом снова все стихло, и снова зазвенела струна. Владимир прилег и притаился. Ведь теперь человек – самое страшное на земле животное. Пошарил вокруг по снегу: вот она, винтовка! Липкая от собственной крови рука пристает к холодной стали. Щелкнул затвором и вставил новую «пятерку» патронов.
Так резко в тишине щелкнул затвор. Такой привычный звук, рождающий звериное удовлетворение и пробуждающий спортивный инстинкт человекоубийства. О, ведь теперь винтовка самый верный и самый дорогой друг! Если бы Владимир мог видеть, то он увидал бы, как щелк его затвора откликнулся эхом в душе другого человека, лежавшего в девяти шагах, за снежной складкой. Он тоже вздрогнул и стал шарить вокруг. Вот она! Тихо, прижимаясь к земле, человек подполз к блестевшей в снегу сталью шашке и протянул руку, но силы его оставили, и уткнувшись лицом в снег, он снова тихо и по-старчески заплакал. На этот раз Владимиру этот плач показался тихим и ехидным смехом притаившегося врага. Очевидно, он не один: иначе не было бы смеха. Ну что ж? Он даром не отдаст жизни. Все равно умирать. «Пойдем туда вместе!..» И вот он уже во власти «Зверя из бездны»: одна ненависть кипит в крови, и не чувствуется боли в смятой коваными лошадиными копытами ноге; руки крепко жмут винтовку, и глаза остры, как у волка. Стоит нагнувшись и осторожно выпрямляется, хищно приподнимая обнаженную голову со сверкающими ненавистью глазами. Стучит сердце, тяжело дышать от волнения и от ожидания, успеет ли он первым выпустить пулю; губы сухи и сжались в странную улыбку… Перестала звенеть струна в белом молчании, оборвалась от блеснувшей огненной вспышки и сухого резкого выстрела… Враг приподнялся на колени… Другой лежит рядом. Он убит. А этот… он целится… «Стук! Стук!..» Ну вот… Оба лежат… О, какая торжествующая радость жмет душу!..
– Корниловцы не сдаются, так вашу…
Так странно и дико прозвучала, вместо молитвы над умирающим человеком, площадная ругань озверевшего Владимира в тихой белой степи, под лунным блеском. Можно было подумать, что это внезапно помешавшийся. Припадая на раздавленную ногу, с винтовкой наготове, он ковыляет к поверженным врагам, и долговязая тень его прыгает на снегу тощим великаном.
– Ах, мать вашу…
И снова человек и его тень остановились, прицелились из винтовок и оба выстрелили. На всякий случай. Оно – вернее: «Шевелится, сволочь!»
И снова ковыляют человек и его тень. Опять тихо-тихо, опять звенит струна грустно и мелодично, точно стон тоскующей ангельской души.
Где же другой? Уткнувшись головой вперед и смешно растопыря скрюченные ноги, лежит один. Точно кланяется земным поклоном перед образом. Где же другой?.. «Не спрячешься, сволочь!» – летит металлический злобный голос с ветерком по белой равнине, и кажется, что высоко всплывшая над могильником луна удивленно смотрит и слушает, что делается на земле. Другого нет. Может быть, зарылся в снег? Подошел к коленопреклоненному и толкнул его прикладом. Тот склонился на бок и потом упал на спину, около занесенного снегом кустика. Лучше не смотреть: жутко. Один глаз, куда попала пуля, полон крови. Огромный, до краев налитый кровью сосуд. А другой, такой ласковый, синий, широко раскрыт и с удивлением смотрит прямо в душу. Словно о чем-то спрашивает. Странное утомление овладело вдруг всеми членами Владимира. Но ни на мгновение не родилось вопроса в его голове: зачем он убил этого человека с добрыми синими глазами? Было только неприятно смотреть на раскрытый и смотрящий на него с вопросом и любопытством глаз. Владимир преклонился и попробовал закрыть глаз. Нет, не хочет. Опять раскрылся и смотрит. Не жалко, но жутко и неприятно. Шашка. На снегу пятна крови и мочи. Владимир вспомнил: это – тот самый кавалерист, в которого он стрелял в последний раз при атаке. Это его лошадь сверкнула белками глаз и смяла его… «Ссадил! Квит, братец. Э, а что у тебя за фляжка? Может быть, водка? А ну-ка… Так и есть! Запасливый. Водка».
– Ну вечная тебе память!
Большими жадными глотками Владимир отпил из фляжки, и приятный огонь побежал по всем закоулочкам его тела. Какое счастье – эта водка. Не отдал бы ее теперь за самую жизнь. Да чего она, его жизнь, теперь стоит?.. Ведь все равно: теперь никуда не уйдешь, и впереди одно – смерть от собственной пули… И водка поможет этому… Неприятная все-таки операция…
– Эх, Лада, прощай!..
Быстро опьянел. Не было сил стоять или отойти. А нога совсем не болит. Задеревенела, перестала чувствовать. И душа задеревенела. Лежит убитый им человек, а он сел рядом, на полу его шинели, и пьет по глотку его водку. Странно и смешно. Ей-богу, смешно! Тихо смеется… Ну а что ж? Попутчики на тот свет.
– Погоди немного, отдохнешь и ты, – глухим баском произнес вдруг Владимир всплывший в голове кусочек романса, и ему стало жалко себя, жаль Лады, жаль оборванного счастья.
– Ты одна, голубка Лада…
Это из «Игоря»… В плену у половцев… Нет, никогда!.. Корниловцы в плен не сдаются…
– Смело мы в бой пойдем за Русь святую…
– Ну что ты смотришь на меня своим синим глазом? Не завидуй, брат! Нечему. Ей-богу, я поменялся бы с тобой местами. Для тебя все кончилось уже, а вот я…
Заплакал и припал к мертвому головой. И долго плакал и шептал что-то, разговаривал с женой – Ладой – и с братом Борисом…
Тихая белая степь сверкала огоньками. Изумленно смотрела с высоты луна. Звенела струна грустно, как бесконечный стон тоскующего в небесах ангела. Притих опьяневший и обезумевший человек. Мягкосердечный жалостливый сон пришел и приласкал несчастного человека. Дал ему пожить и отдохнуть его душе в легких грезах воскресших воспоминаний и призраков.
– Ах, Лада, Лада!..
Чудеса творит всемогущий сон… Вот он превратил озверевшего от крови человека, обреченного уже смерти поручика Владимира Паромова, снова в пятнадцатилетнего гимназиста, а его жену – в стройную, как молодая березка, гимназистку Ладочку… Две чистые прозрачные души, благоухающие ароматом раннего весеннего утра жизни. От этих душ пахнет ландышем и сиренью. Тоска, страдания и радости этих душ, как утренняя роса на только что раскрывшихся цветах.
Призраками первой чистой любви, как благодатным дождем в засуху – землю, напоил Господь темную бездну души человеческой через сон прекрасный и радостный…
Снилось, что он возвращается лесом с Ладой: ходили за ландышами, любимыми цветами девушки, и увлеклись, не заметив, как подкрался вечер. Погасли краски заката. Сгустились зеленые сумерки, и к лесу стало страшно… Лада взяла Володю под руку: ее пугали превращавшиеся в уродов силуэты кустов и пней, обросших молодняком. Она вздрагивала и прижималась к руке Володи, и от этого Володя пьянел, как от вина, и переставал чувствовать под ногами землю. Точно вырастали за спиной крылья и поднимали его вместе с тайно любимой прекрасной девушкой… Заблудились. Леший обошел. Выглянула чрез лес луна, и сделалось точно в сказке – и красиво, и страшно. Запел близко-близко соловей – остановились и долго слушали, боясь вспугнуть маленькую волшебную птичку. Володя вздохнул и прошептал:
– Ах, Лада, Лада! Если бы вы знали…
– Знаю…
Они встретились глазами, и глаза все сказали друг другу, сказали больше, чем могли бы произнести уста. Господи! Какое счастье! Он целует склонившуюся золотую голову девушки, обвеянную тонким ароматом ландышей…
– Лада, Лада… Открой глаза!..
Глаза раскрылись, губы раскрылись, сверкнув жемчугом зубов, и улыбка расцвела сказочным цветком счастья на ее лице. А на ресницах блеснули слезы, под лунным светом заигравшие алмазными блесками…
Медленно и молча шли. Останавливались послушать соловья, и снова волна огромного сбывшегося счастья захлестывала их, сплетая губами и руками… Когда вернулись в дом, там все спали. Они долго сидели на балконе и молча слушали соловьев, в разных странах ночи славословивших счастье любви. Не могли уйти друг от друга. Володя склонялся к Ладе. Ветерок играл золотистым шелком ее волос и щекотал ему лицо, а ландыши струили опьяняющий аромат. Душа не вмещала радости… Он упал перед девушкой на колени и стал целовать ей ноги…
– Я хотел бы умереть, Лада…
– Вместе… со мной?
Она положила его голову на свои колени и, нежно касаясь волос, ласково гладила. А он, спрятав лицо, плакал слезами счастья, похожего на аромат ландышей.
– Я тебя давно, давно любила… только никто на свете не знал этого…
– Ах, Лада! Я не верил, что можно плакать от счастья… Мне хочется молиться и плакать… Господи, какое счастье жить! Нельзя этого рассказать…
– Кто-то идет… уходи… Возьми с собой эти ландыши и положи себе на подушку… И увидишь меня во сне… Будто я пришла, наклонилась, перекрестила и поцеловала тебя… Вот так!..
* * *И от этого поцелуя поручик Владимир Паромов проснулся. Словно он не верил, что все это ему чудилось только во сне: начал искать кого-то глазами и шептал:
– Ты ушла!.. Ты ушла… Ты приходила ко мне проститься… Лада, я не хочу умирать, я хочу жить!..
Солнечный день. Снежный степной простор блестит и слепит глаза. Тихо и торжественно, как в светлом храме. Медленно уплывают по голубым небесам, словно лебеди друг за другом, два белых растянувшихся облака. Вот сесть бы на них и полететь от смерти к жизни, от настоящего к прошлому, которое приснилось…
И от этого, что приснилось, захотелось жить, так захотелось жить, что убитый, смотревший в него одним потускневшим глазом, стал внушать ужас и отвращение… Жить! Жить! Жить! Но где путь к жизни? Куда идти, чтобы прорваться к «своим»? Где они, «свои»?.. Поручик вышел на бугор и стал всматриваться, вслушиваться и вспоминать. Пока был во власти сна, он, как иногда бывает с нами, занятыми размышлением и перестающими слышать стук часового маятника, – не слыхал того, что вдруг начал теперь слышать: где-то, очень далеко, шла перестрелка. Только привычное опытное ухо могло в едва намечавшихся, похожих на падение крупных капель дождя на бумагу звуках узнать стрельбу из винтовок и пулеметов. Однако трудно было определить точно линию направления, по которой шел бой. На юге, но то кажется правее, то левее, то в двух пунктах. Одно несомненно: от «своих» отрезан.
Позади и впереди враги. Что же, значит, – умирать?.. Вот он, попутчик на тот свет! Все ждет и смотрит одним глазом…
Поручик застыл в раздумье, и вдруг на лицо его забегала странная улыбка. Тихо доплелся до мертвого, подсел и стал обшаривать его карманы и пазуху. Ну вот они, документы! И деньги. Дрожащими неслушающимися пальцами перебирал бумажки, читал их нетерпеливо и серьезно. Словно просматривал деловую ноту. Две бумажки отобрал и, чтобы не улетели, положил под приклад винтовки. Сорвал с фуражки, заскорузлой от крови, «красную звезду» и приладил ее к своей папахе. Сбросил свою шинель с погонами и стал стаскивать с мертвого грязный бараний тулупчик. Изредка приостанавливался и озирался… Потом, успокоившись, снова принимался возиться около мертвого… Увидал брошенную на снегу фляжку и вспомнил, что в ней есть еще водка. Допил и вдруг стал смеяться и разговаривать…
– Ограбил, брат… Не гневайся! Я тебя не знаю, ты меня тоже… И оба мы с тобой, вероятно, хорошие люди, а вот так уж вышло… Если бы не я тебя, так ты бы меня… Такой закон, брат, теперь…
Разговаривал и натягивал на себя бараний тулупчик. Сунул в карман деньги и документы, перекрестился на убегавшие облака и, нахлобуча ухарски на затылок папаху с красной звездой, сказал на ходу, обернувшись к мертвому:
– Прощай, поручик Паромов!
И прихрамывая на левую ногу, заковылял по снежной скатерти, истоптанной коваными ногами лошадей… Долго одинокая человеческая фигура маячила в снеговом море. Потом пропала за снежной волною, словно растворилась в ярком солнечном сиянии…
Глава II
Несколько дней шел кровавый пир «Зверя из бездны». Люди уничтожали друг друга, как ненавистных гадов, пьянели от крови, стонов, грохота орудий и свиста разящих пуль. Ничего не осталось в душах. Только одна кровожадная ненасытная ненависть. Человек сделался страшным, и Диавол отдыхал, потому что ему нечего было делать на земле… Со всех сторон неприятельский фронт подползал к городу. Бои шли с одной стороны верстах в ста, а с другой пододвинулись так близко, что грохот орудий уже был слышен в городе, если ветер плыл с этой стороны. Ужас и безумие уже охватывали жителей, уже началось паническое бегство. А защитники еще не дрогнули и отчаянно отбивались, от неукротимой ненависти и отчаяния забывая о смерти, не замечая ее… Фронт изломался, как кривая горячечной температуры. Станции по несколько раз переходили из рук в руки в течение одного дня. Местами все перепуталось в хаос, и никто уже не знал, где свои, а где чужие… Случалось, что стояли на двух соседних станциях и переговаривались по телефону, обманывая друг друга. Белые говорили за красных, красные за белых, и так запутались, что перестали верить даже своим, и часто своих же громили орудийным огнем… И вот все вдруг стихло. Оборвалось. С ночи подул резкий ветер. Снежная степь закрутилась снежными вихрями, с тусклых небес посыпалась острая колючая, как иголки, крупа, потом повалил снег – и все исчезло в белом крутящемся тумане. Точно небесам надоело наконец это самоистребление, и они решили прикрыть пропитанную слезами, кровью и ужасами преступлений землю глубоким чистым покровом снегов вместе со всеми живыми и мертвыми. Замело все пути и дороги. Остановились занесенные сугробами поезда. Потонули в снежных горах маленькие станции. Перестали грохотать орудия, замолкли винтовки и пулеметы. Перестали летать похожие на хищных птиц аэропланы… Все замерло и покорилось… Три дня и три ночи бушевал снежный буран. На четвертый день к ночи стихло, и новое утро встало тихое, яркое, морозное и радостное. Снежное заколдованное царство! Точно все заснуло в белом очаровании и хотело забыть о том, что было… Точно Господь хотел вычеркнуть из жизни всю кровь, слезы, преступления и заставить людей зажить новой человеческой жизнью. После снежного потопа… И весь этот день прошел в благостной тишине, и можно было подумать, что на земле воцарился снова мир, а в человеческих душах – благоволение… Солнышко обошло весь горизонт и, словно устыдившись за людей, за все ими содеянное, покраснело и конфузливо спряталось в снежном океане, а краска его ланит долго еще окрашивала сугробы, тучки в небесах, вершины далеких могильных курганов… Фиолетовая грусть стала окутывать снега и горизонты. Загустели небеса, и синие огоньки Божьих лампад зажглись снова в горних высотах, сверкая радужными искрами в снежинках…
Как одинокий голодный волк, то приостанавливаясь, прислушиваясь и озираясь, то снова ускоряя шаг, шел обсахаренный снегом человек по направлению нескольких крыш, чуть-чуть поднимавшихся над сугробами и напоминавших положенные в беспорядке обитые белой парчой гробовые крышки… Вот этот точно из снежной бури рожденный человек чего-то испугался, оглянулся и круто свернул в сторону, утопая по пояс в мягких сугробах, и исчез, словно растворился в снегах. Если бы кто-нибудь увидал со стороны появление и исчезновение этого человека, он не поверил бы своим глазам, счел бы это галлюцинацией или уверовал в привидения. Точно мертвец в саване блуждал в поисках своей могилы…
Когда молчаливая синяя ночь упала над степью, в сугробах снова выросла фигура человека и, выбравшись на затвердевшую корку снега, заковыляла к хуторам, пробуждая тишину заколдованного царства звонко похрустывавшим под ее ногами снегом. Палка, на которую человек опирался, с визгом врезывалась в корку снега и скрипела, и хруст и скрип этот в ночном молчании долго разносился в заколдованном царстве, наполняя тишину тревожным и, казалось, ненужным и раздражающим беспокойством… Хутор точно вымер. Только в одном окошечке, разрисованном морозом и наполовину занесенном снегом, мерцал красноватый огонек, делая окошко похожим на воспаленный глаз. Блуждающий призрак подошел к огоньку, посмотрел в заметенное стекло и постоял в раздумье. Потом он нерешительно постукал палкой и стал ждать. Вместо отклика огонек вдруг погас, и стекло окна побелело. Не хотят пускать. Замерзни, околей – все равно теперь людям… Человек злобно забарабанил палкой под окошко и опять послушал. Нет, не хотят слышать.
– Ну тогда я заставлю вас услышать.
Человек перелез через забор и очутился на дворе. Вошел на крылечко и стал колотить в дверь ручкой револьвера.
– Отворите! Эй, кто есть?
Грохнул в дверь сапогом и громко обругался похабными словами. Ну вот, – идут.
– Что надо? – спросил злой старушечий голос за дверью.
– Отвори, бабушка.
– Да кто ты такой?
– Свой.
– Какой-такой «свой»? Покою от вас нет… Проходи с Богом! Не пущу.
– Добром не отворишь, худо будет.
Старуха покряхтела, пошептала молитву и отперла.
– Зажги огонь!
Старуха долго шарила и ворчала. Изба осветилась скучным коптящимся языком маленькой лампы. Человек огляделся: никого, кроме старухи, не видать.
– Мужики дома?
– Никого нет, батюшка, никого… Одних угнали, другие разбежались… Никак одна я на всем хуторе…
– Не врешь? Смотри, старая, говори правду, как попу на духу, а то худо будет.
– А что мне будет? Двум смертям, батюшка, не бывать, а одной не миновать. Мы уж и бояться-то перестали… И Бога-то теперь не боятся уж…
– Хлеб есть?
– Откуда? Ты тесто-то ставил?
– Жрать хочу, как собака… Лучше покорми сама. Не дашь, искать буду, а найду – ответишь мне за обман.
– Эх, вы!.. Как собаки и есть: которая лютее да зубастее, та и вырвет…
Старуха пошла за перегородку и выйдя бросила на стол краюху черствого хлеба:
– Весь тут. Не пахано, не сеяно, а подай! Сама с голоду подыхай, а вам подай… Ешь, Христа ради!
Человек обломил от краюхи половину и, торопливо давясь, стал утолять мучивший его голод.
– А это тебе оставил, старуха… Пополам… По-братски, старуха!
– Добрые вы.
– Какая станция, бабушка, у вас?
Старуха назвала станцию.
– Верно. Она самая… – подумал вслух человек и опять спросил: – Много на станции наших?