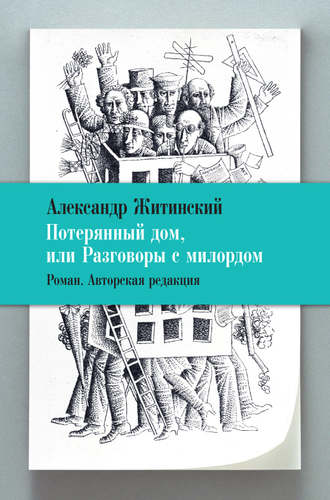
Полная версия
Потерянный дом, или Разговоры с милордом

Александр Житинский
Потерянный дом, или Разговоры с милордом
© Житинский А. Н. (наследники), текст, 1987
© «Геликон Плюс», макет, 2019.
Предисловие
О том, что Александр Николаевич Житинский пишет роман, знали все – то есть все, кому это было важно. У него были специфические отношения с читателем, они и сохранились в прекрасной неизменности: с первых публикаций, еще поэтических, был сравнительно узкий, но абсолютно преданный круг читателей, в которых он по-снайперски попадал, которым он был во всем созвучен, которые могли больше или меньше любить те или иные вещи, но немедленно читали всё, что он публиковал. Пожалуй, больше всего почитателей ему добавила «Лестница», первая крупная вещь, напечатанная лет через семь после написания, когда ее куски уже начали передавать, кажется, по «Свободе». Что так привлекало в Житинском – трудно сформулировать, он сам, вероятно, не взялся бы – поскольку вообще не слишком копался в собственном творческом процессе, да и в собственной душе. Можно дать объяснение чисто психологическое, в одном из самых автопортретных, откровенных стихотворений он прямо объяснил свой тип, людей своего «карасса» – этот воннегутовский термин он любил и часто применял.
Я с радостью стал бы героем,Сжимая в руке копьецо.Могло бы пылать перед строемМое волевое лицо.Слова офицерской командыЛовлю я во сне наугад,Пока воспаленные гланды,Как яблоки, в горле горят.Я стал бы героем сраженийИ умер бы в черной броне,Когда бы иных пораженийНаграда не выпала мне,Когда бы навязчивый шепотУверенно мне не шептал,Что тихий душевный мой опытВажней, чем сгоревший металл.Дороже крупица печали,Соленый кристаллик вины.И сколько бы там ни кричали –Лишь верные звуки слышны.И правда не в том, чтобы с крикомВести к потрясенью основ,А только в сомненье великомПо поводу собственных слов.Молчи, сотрясатель Вселенной,Астролог божественных душ!Для совести обыкновеннойНе грянет торжественный туш.Она в отдалении встанетИ мокрое спрячет лицо.И пусть там герои буянят,Сжимая в руке копьецо!Очень хорошо помню, как он читал мне это стихотворение в ответ на какой-то детский мировоззренческий вопрос, какими я часто его мучил, – колдуя над кофе, отвлекаясь, гремя ложками, без малейшей патетики, скорее себе под нос. Я совершенно не убежден по нынешним временам, что сомненье великое по поводу собственных слов так уж благотворно, – и так уж интеллигентские наши сомнения позволили слишком многим убогим и самоуверенным людям завладеть трибунами, миллионами, кнопками и прочими инструментами подавления. Надо уметь называть вещи своими именами. Но Житинский при всей своей мягкости именно это и умел, и когда я однажды сказал, что такую позицию можно принять и за слабость, немедленно ответил (он, видимо, над этим думал): «Я человек не слабый, а мягкий». И пояснил, что разница проста: слабый не может заставить себя – хотя иногда заставляет других. Мягкий может сделать с собой что угодно, и в этом его сила.
Были, конечно, и другие параметры, по которым он опознавался: свобода, вольный полет богатой и веселой фантазии, ирония, замечательное владение самыми разными стилями – он легко стилизовался и под петербургский модерн, и под старомодную страшную сказку, и под фольклор многочисленных НИИ. В авторской речи Житинского была восхитительная естественность, ни тени натужности, то особое изящество, которое воспитывается только поэтической школой (а школа в этом отношении была у него серьезная, он учился у Глеба Семенова и с гордостью показывал его пометки на своих машинописных сборниках). Читатель сразу на него подсаживался – кроме тех случаев, не столь уж редких, когда испытывал столь же резкое отторжение; в отношении к Житинскому не было середины – либо «это совершенно мое», либо «это вообще не пойми что». Сходным образом, кстати, реагировали на Валерия Попова, который все же был – как бы сказать – несколько более общепринят. То есть его принято было знать, а Житинский был вовсе уж паролем только для своих. Я не могу даже сказать, что «Лестница» привела меня в чисто эстетический восторг. Как раз критику там было бы к чему придраться, но я прочел ее совершенно не как критик. Мне было лет 14, она появилась в «Неве», которую выписывали дома, и вне зависимости от того, понравилась она мне или нет, я понял, что буду у этого автора читать все, что он напечатает. С чем это сравнить? Бывает город, который нравится с точки зрения архитектурной или климатической, а бывает улица, на которой хочешь жить, и понимаешь, что рано или поздно будешь жить на ней, потому что она такая, как надо. Ну потому что на ней тени так лежат, или в окне ближайшего дома сидит правильный кот, или девушка такая идет навстречу с собакой, и все это в нужный час дня.
За год я прочел «Снюсь» – повесть, от которой пришел в совершенный восторг и которую поныне считаю высшим его до-романным достижением, – «Хеопса и Нефертити», «Арсика», потом достал сборник «Голоса», потом добыл в Горьковке (поступив на журфак) сборник «От первого лица», потом сборник стихов «Утренний снег»… Рассказ «Стрелочник» я так часто читал тогдашним возлюбленным, что выучил наизусть. Короче, годам к восемнадцати я был продвинутым фанатом Житинского, у меня было несколько таких же друзей, и как-то само собой предполагалось, что сейчас он пишет роман. Каждый советский писатель должен был написать роман, и не обязательно советский: по рассказам и особенно фантастическим повестям Житинского – по каким-то обмолвкам, вроде «Невозможно быть живым и невиноватым» в «Арсике», – чувствовалось, что он человек богатый, что у него свой мир, свои драмы, что видим мы только участки огромного холста, который он рано или поздно заполнит. Житинский вообще рожден был для вещей «большого дыхания», барочного строения, стернианской свободной композиции – даже «Записки рок-дилетанта», печатавшиеся в «Авроре», на глазах превращались в роман, даже его ЖЖ, если издать его полностью, выглядит масштабным автобиографическим повествованием. Может быть, в нем иногда угадывался моралист, человек с мировоззрением, который хочет и должен обращать в свою веру, хоть и с предельной ненавязчивостью. В общем, ясно было, что он вошел в лучший писательский возраст и пишет главную книгу, – так что когда я всеми правдами и неправдами выбил в «Собеседнике» командировку в Ленинград и поехал брать у Житинского интервью (с ним познакомился Михаил Соколов и дал мне его телефон), первый же мой вопрос был: «А вы, наверное, роман пишете?»
Я с ним тогда довольно быстро сошелся, и не потому, что хорошо знал тексты (хотя он, правду сказать, удивился – его сын, мой ровесник, меньше интересовался его творчеством), а потому, что у нас в самом деле нашлось много общего и как-то он вообще немедленно располагал к себе. Житинский был человеком большого обаяния и той замечательной прямоты в разговоре, которая ничего общего не имеет с простотой: он сразу выходил на главные темы. Помню, я его году в восемьдесят седьмом, уже служа в армии, спросил о перспективах перестройки; он сразу ответил: «Рано или поздно они упрутся в Бога», а для меня это было тогда совсем неочевидно, и только лет пять спустя я подивился его правоте. Про роман он сказал, что написал его в духе Стерна и как бы в диалоге с ним (я радостно подпрыгнул, потому что мы только что прочитали в рамках курса зарубежки «Сентиментальное путешествие»), что книга вышла непропорционально большой и что издательская его судьба туманна – «Отнес в “Неву”, но они не знают…» Тогда же он сказал, что скоро будет выступать в Москве на вечере «Невы» и сможет меня провести.
Попасть на тот вечер было действительно непросто, потому что там были Аркадий Стругацкий (читавший главу из «Хромой судьбы»), Шефнер, Гранин, – весь цвет питерской литературы; Житинский на этом фоне отнюдь не потерялся, хотя и махал рукой, повторяя: «Провал». Читал он семнадцатую главу – «Воздухоплаватели и воздухоплавательницы». По ней уже было ясно, что роман – по ощущению праздника и катастрофы, сопровождавшему всю вторую половину восьмидесятых, – получился исключительно ко времени. На том же вечере главред «Невы» Борис Никольский сообщил, что роман журналом принят, но вызывает примерно такое же чувство, как рояль, который надо внести в малогабаритную квартиру: то ли рояль распилить, то ли стену ломать.
Тогда путь большой книги к читателю был долог. Я уже занимался у Владимира Новикова в семинаре литературной критики, когда Новиков сообщил нам, что только что написал внутреннюю рецензию на «Потерянный дом», и даже дал мне ее почитать; книгу он в целом горячо одобрял, но писал, что фраза «Пива нет» в качестве финала столь масштабного повествования его не устраивает, и Житинский согласился. (По-моему, как раз такая фраза в финале особенно уместна, и здесь читатель ознакомится с авторской версией.) «Нева» в конце концов согласилась отдать под роман огромную журнальную площадь в четырех последних номерах 1987 года – книгу считали потенциальной сенсацией, она в самом деле была по тому времени храбра, и не публицистической журнальной храбростью, а отвагой прямого разговора о главных вещах. Разговор этот тогда по разным причинам не состоялся, но он неизбежен, и сейчас для него, кажется, самое время. «Потерянный дом» был напечатан не совсем вовремя – тогда все захлебывались именно публицистикой, а не фантастикой, а худлит если и читался, то в основном эмигрантский либо внезапно разрешенный, в прошлом подпольный. Актуальная литература читалась немногими, но и на фоне тогдашней журнальной прозы роман Житинского попал ровно тому читателю, которому был предназначен: мы знали этого автора и ждали его Большую Книгу. Житинский, с которым я тогда уже виделся более-менее регулярно – я служил в армии в Питере, и где-то раз в месяц случались увольнения, – сам удивлялся, показывая мне письма, преимущественно женские. Там ему не то чтобы признавались в любви – просто в его стилистике, с его интонациями там объясняли, как важна и своевременна оказалась эта книга, какие глубокие струны она задела и так далее.
Очень хорошо помню, как в предновогоднюю ночь 1987 года стоял я на тумбочке дневального, в наряде по роте, в каковые наряды летал довольно часто, и, пользуясь предновогодней халявой, читал ночью последний, декабрьский номер «Невы» с финальной порцией романа; и, читая ее, рыдал неудержимо, крупными читательскими слезами. Должен сказать, что я и теперь, перечитав роман в самом полном виде, несколько раз от души над ним плакал, и эта реакция кажется мне нормальной. Как пояснил Александр Жолковский, читатель плачет не от грусти и даже не от жалости, не от обычной читательской эмпатии, а от блеска, с которым решена авторская задача, от совершенства. Мало в русской прозе последних пятидесяти лет таких мощных, симфонических финалов, как в «Потерянном доме»: эта книга была выше всего, что Житинский написал до сих пор, оказалась самой тяжелой штангой, которую он рожден был поднять, и как бы заменила собой, целиком вобрала авторскую личность. Недаром при второй встрече с Ленкой, очень красивой рыжей женщиной, которая тогда же, словно в награду, появилась в его жизни и скоро стала его третьей женой (а сейчас издала эту книгу), он просто вручил ей четыре номера «Невы» – и мог о себе больше ничего не рассказывать: он весь туда поместился.
Отдельной книгой «Потерянный дом» вышел в 1989 году, когда всем было уже вовсе не до литературы, тем более не до серьезной. Тогда же, уже после дембеля, я ознакомился дома у Житинского с единственным полным экземпляром романа, который кто-то из таких же фанов переплел в три разноцветных тома. Житинский относился к своим черновикам не особенно серьезно и не попытался в полном издании восстановить все купюры, и мне – я честно об этом сказал – тогда даже больше нравился сокращенный вариант: в полном были лишние линии, только отвлекавшие читателя. Житинский не согласился: он сказал, что нечто все-таки ушло. Пожалуй, думаю я сейчас, полный «Потерянный дом» действительно масштабнее, серьезнее и притом свободнее: в журнальном варианте он более дисциплинирован, логичен и причесан, а теперь наконец приходит к читателю таким, каким был: как разросшийся, ломящийся сквозь ограду сад.
«Потерянный дом» представляется мне главным русским романом позднесоветской эпохи. Написанный на высшей точке авторских возможностей, на выходе из глубокого личного кризиса, роман призван был не только спасти автора (с этой задачей он справился), но и остановить распад общества (а это и не могло получиться, но, как говорит БГ, всех спасти нельзя, а нескольких можно). Это не просто панорама позднего СССР, не просто парад всех его главных героев, которые по большей частью исчезли или переродились, – это последняя попытка построить дом для страны, подарить ей тот образ всеобщего жилища, в котором все чувствовали бы себя на месте и могли еще временами испытывать общность. Роман о перелетевшем доме оказался пророческим – после первоначального энтузиазма в стране настали раздор и запустение, ровно как в многоэтажном доме архитектора Демилле, который он так плохо привязал к местности. Дом в самом деле оказался потерян, и возвращение в него – тоже по предсказанию – оказалось совсем не таким, каким ожидалось, отнюдь не триумфальным и даже не радостным. Получилось – опять-таки в полном соответствии с авторским пророчеством, – что мы давно живем в том же самом доме, не чувствуя, не понимая этого, попросту не узнавая его. А когда он оказался тем самым, мы испытали скорей тоску и разочарование, чем радость возвращения, потому что хотели и заслуживали после всех скитаний чего-то другого.
Этот роман не с чем сравнить, разве что с «Пушкинским домом» Битова и с «Кошкиным домом» Синявского, где решались те же задачи – построение нового образа страны; думаю, однако, что книга Житинского – при всей ее хваленой непритязательности, при отсутствии у автора толстовских амбиций и подчеркнутой самоиронии его тона – масштабней и значительней и этих двух романов, и всего, что появилось в русской литературе с советских времен. Веселая и трагическая эпопея поэта и фантаста оказалась самым полным, исчерпывающим, насмешливым и сострадательным описанием советского проекта, его финала, славы и позора. Думаю, появление этой книги – самый ценный результат последнего советского десятилетия, славного многими шедеврами; и все-таки даже на их фоне «Потерянный дом» – многоквартирный, многоэтажный, богатый и виртуозный – выглядит высоткой. К этому роману оказалось нечего добавить: последняя законченная книга Житинского «Плывун» – продолжение «Лестницы» 40 лет спустя, и опять с архитектурной метафорой – был всего лишь еще одной, пусть и весьма талантливой, версией «Потерянного дома». Житинский десять лет молчал, занимаясь то роком, то Интернетом, то издательством (и был успешен в этом деле, как в любом, потому что руки у него были золотые и вкус абсолютный), но писательское молчание было его скрытой травмой. Молчал он вовсе не потому, что разочаровался в литературе, хотя вправе был ожидать и более бурной реакции, и нового статуса; те, кому роман был адресован, его прочли, полюбили и прочно зачислили в список главных книг. Причина его молчания была именно в том, что к его роману до сих пор нечего добавить, – и сегодня «Потерянный дом» отнюдь не выглядит анахронизмом. Продолжая любимую автором архитектурную метафору, признаем, что новые технологии строительства вполне себе появились, но никто еще не выдумал столь изящного, вместительного и вместе с тем компактного чертежа.
Книга с блистательно найденной метафорой была венцом самого сложного и многосоставного периода советской истории, пределом той сложности, которой достигла советская литература; она всегда была глуховата в метафизическом смысле, а Житинскому удалось невозможное – советский религиозный роман, религиозное размышление о том, почему коммунистическая идея обречена и какова ее дальнейшая судьба. Все это осталось неотрефлексированным и непроговоренным, часто заболтанным – потому что не всем хватало той прямоты, с которой Житинский выходил на тему. Так что сегодня «Потерянный дом» имеет, пожалуй, даже больше шансов на читательское понимание – прежде всего потому, что новое поколение читателей уже выросло и оно далеко не так примитивно, как простые люди девяностых, вдруг утратившие способность видеть мир в трех измерениях. Житинский, кажется, получил наконец не десятки, а тысячи тех читателей, для которых его книга спасительна.
Я счастлив, что единственный уцелевший полный экземпляр романа превратился в тысячу полновесных экземпляров нового издания. Именно с него будет когда-нибудь печататься «Потерянный дом» в серии «Литературные памятники» – с подробным научным комментарием. Там будет и большая статья о метафоре дома в советской прозе, и разъяснение многих бытовых деталей, и даже отдельная статья о том, почему «Пива нет» – самый точный вывод из советского ХХ века.
Надеюсь до этого издания дожить и желаю вам того же.
Дмитрий БыковОт автора
Благодарим Андрея Олеговича Иванова, по самиздатовскому трехтомнику которого была восстановлена авторская редакция этого романа
Этот роман я писал в соавторстве с воображаемым (но не вымышленным!) собеседником. Разговоры наши часто казались весьма далеки от сюжета вещей, и запись их можно было бы исключить из текста романа. Однако по зрелом размышлении мы решили сохранить наши беседы в тексте, дабы дать полное представление не только об истории, составившей сюжетную основу романа, но и о самом процессе его создания, доставлявшем нам немало веселых и горьких минут.
Мы должны честно предупредить, что тем читателям, которые привыкли видеть в литературе прямое отражение жизни, не следует даже браться за чтение: они испытают разочарование. Известное удовлетворение от чтения, возможно, испытает лишь та категория читающей публики, коей не страшны заведомые нелепицы и которая снисходительно относится ко всякого рода литературной игре, так редко встречаемой ныне на страницах наших достопочтенных журналов.
Что же касается нас, то мы этим предуведомлением сняли с себя всякую ответственность за дальнейшее и не без страха ввергаем себя и добровольного читателя в неподвластную (увы!) стихию выдумки и легкого назидательного развлечения.
Из последних наших слов следует, что мы с соавтором еще не перечитывали сочиненного нами творения и сделаем это вместе с нашим благосклонным читателем, с величайшим вниманием следя за его живой непосредственной реакцией.
Часть первая. Переполох (Allegre vivace)
Я сделаю все, что смогу, но смеяться, милорд, я буду, и притом так громко, как только сумею…
Л. С.Подступ первый «О клапанах»
Вот! С этого и надо было начинать!
Дело в том, что я трижды принимался писать этот роман, но далее нескольких страниц не продвинулся. Погода ли была тому виною, скверное расположение духа, отсутствие времени или что там еще, но роман не желал увидеть себя на бумаге, несмотря на то что он – уверяю вас! – давно написан и прочно занимает в моей голове центральное место.
Примерно такое же положение (я говорю о прочности) занимает и дом, стоящий ныне на Петроградской стороне, неподалеку от Тучкова моста. Я могу сообщить точный адрес.
Дело было в непоправимой серьезности, с какой я намеревался писать. «Устраняюсь! – шептал я себе. – Автора не должно быть видно, даже если он и живет в этом доме. Литературную воспитанность следует поставить во главу угла (я долго искал этот угол), с тем чтобы, не торопясь, предъявлять читателю героев, оставаясь самому в тени, как и подобает скромному автору. Не зря тебя уже упрекали в том, что ты к месту и не к месту (последнее чаще) выскакиваешь на сцену и начинаешь строить рожи…»
Так я уговаривал себя, в то время как самому хотелось выскочить на сцену с очередной рожей и под свист и улюлюканье читателей попытаться изобразить нечто.
– Нечто?
– Не торопитесь, не торопитесь!
Сначала послушайте некоторые размышления о клапанах, кои должны быть открыты, чтобы на свет родилось нечто.
– Нечто?
– Тьфу ты, черт, так мы никогда не сдвинемся с места!
По моим наблюдениям, каждый человек обладает клапанами, подобно четырехтактному двигателю внутреннего сгорания, с тем отличием, что у человека их несравненно больше и расположены они не столь симметрично, в разных уголках души. Для нормальной работы двигателя клапаны должны быть поочередно открываемы посредством так называемого кулачкового механизма. А если уж ты решил излить всю душу, то будь добр открыть и все клапаны… С этими словами я расстегнул пуговицы на пиджаке, снял его, расстегнул пуговицы на рубашке, надеясь таким образом помочь открытию клапанов души. Они не открывались. Перед моими глазами все время маячили судьи: читатели, критики, литературоведы (их особенно не люблю), редакторы (люблю их безгранично), цензоры (никогда не видел), издатели и, наконец, наборщики в типографии, которым предстоит когда-нибудь буковку за буковкой набрать этот текст.
– Вы читали Эмиля Золя?
– Нет, не читал и читать не собираюсь.
Снисходительно-сочувствующая улыбка одной из моих редакторш не дает мне покоя! Она несколько месяцев донимала меня Эмилем Золя, которого я безгранично уважаю, но не читал (видит Бог!), что и дало ей право улыбаться.
– Зато я читал Стерна. Каждый читает то, что ему нравится.
– Ага, попался!
Да, милые критики и литературоведы (скулы сводит при произнесении этого слова), я сам складываю оружие – отстегиваю шпагу, вынимаю обойму из пистолета, бросаю все это к вашим ногам и поднимаю обе руки кверху. Прошу не ломать голову: на что? на что, Господи, это похоже?! Да на Стерна же, черт побери! Совсем не на Эмиля Золя!
Учтите, я сам это сказал. Добровольное признание смягчает меру наказания.
Кстати, эпиграф к части первой я взял из письма Лоренса Стерна к одному высокопоставленному лицу, которое упрекало писателя в неподобающей его духовному сану веселости. Для несведущих: Лоренс Стерн был по образованию священником – ну а я тоже не родился сочинителем!
Что же поделаешь, если среди авторов наряду с серьезнейшими их представителями (наподобие Эмиля Золя) встречаются – ни к селу ни к городу – шуты гороховые, насмешники, чтоб они провалились, для которых вся жизнь – сплошная игра и развлечение. Они прожить не могут, чтобы не позубоскалить, не вырядиться в колпак и не поплясать на невинных костях современников. Современники им этого не прощают.
Раздумывая таким образом, я приподнимал ногтем то один, то другой клапан – из-под них с жалким свистом вырывались струйки пара – я был похож на органиста – и напускал на себя повышенную серьезность, мечтая даже почитать Эмиля Золя (дался мне этот Эмиль Золя!), чтобы примкнуть к подавляюще серьезному большинству современников и написать назидательный роман на морально-этическую тему, в котором все морально-этические точки были бы расставлены над морально-этическими i… – и ни одна не была бы перепутана. Я почти поверил в то, что смогу это сделать. Глупец!
Как вдруг в один прекрасный вечер, находясь в полном одиночестве рядом с бутылкой вина и посматривая на эту бутылку несколько виновато, ибо не в моих привычках пить одному, я, все еще не веря в возможность полноценного питья в одиночку, потянулся за штопором, ввинтил его в пробку, дернул… дернул сильнее… Раздался невыразимо почему-то приятный звук – пык! – и бутылка открылась. Стерн лежал на тахте, уткнувшись в плед лицом (то есть обложкой). Я решил пить со Стерном. Я сказал:
– Учитель! Обстоятельства сложились так, что мы остались с вами вдвоем. Еще они так сложились, что вам было угодно родиться на двести с лишком лет раньше. Я ни в коем случае не укоряю вас за то, но хочу сказать, что ваши книги мешают мне существовать. Что делать в таком случае?
Стерн помалкивал.
– Не писать? Но уж вам-то должно быть известно, что страсть к писательству хуже любой другой страсти и не поддается излечению. Писать, как Бог положит на душу? («Именно», – отозвался Стерн, не поднимая обложки от тахты.) Но тогда меня обвинят в плагиате, вторичности, третичности, четвертичности и архаичности, поскольку клапаны моей души, будучи открыты, источают потоки и струйки, чрезвычайно похожие на ваши, милорд.
Я выпил полстакана вина (это был венгерский «Токай»), сделав предупредительный жест. На мою учтивую речь Стерн ответил следующее:
– Мне сдается, вы хотите продлить игру, начатую мною двести лет назад. В таком случае не советую, потому что вы будете иметь неприятности.
– Я согласен их иметь, даже если размеры неприятностей будут соответствовать размерам сочинения, – сказал я.
– Какой же роман вы намереваетесь сочинить?
– Длинный, – сказал я.
– Ответ совершенно в духе шендианства! – воскликнул Стерн. – Так что же вам мешает?


