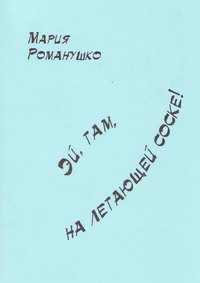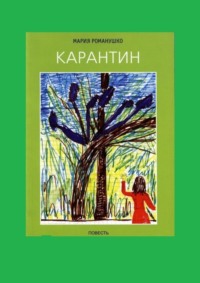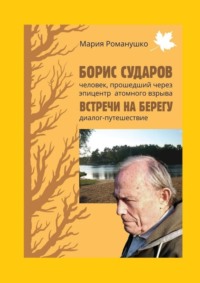Полная версия
Наши зимы и лета, вёсны и осени. Роман о детстве
Особенной привязанностью пользуется у тебя зажжённая люстра. Помню, ещё в роддоме ты находил глазами яркую лампу у потолка и смотрел на неё, не мигая. Почему так притягивает тебя этот яркий, слепящий свет? О чем он напоминает тебе?..
А ещё пришельцы из далёких миров любят свободу!
Странным, непостижимым для меня образом ты выпутываешься из пелёнок, выскальзываешь из распашонок! Подняв одеяло, я то и дело нахожу тебя голеньким. Да здравствует свобода! – говорят твои весело дрыгающиеся ручки и ножки. Кто сказал, что человек полутора месяцев от роду должен быть спелёнутым по рукам и ногам? Прочь пелёнки! Да здравствуют ползунки!
«Да здравствует свобода!» – слышится мне в твоих упоительных визгах, когда я выпускаю тебя, голенького, на необозримый простор тахты. Ты ещё не ползаешь, хотя и сучишь старательно ножками, но ты видишь, чувствуешь простор вокруг себя, – он волнует и манит…
Воздух и весеннее солнце, заливающее комнату, ласкают тебя. Ты весь умещаешься в моих ладонях. Разбегающаяся, разлетающаяся галактика, помещённая в крошечное тельце, свернувшееся на мгновение тёплым клубком… Ты одаряешь меня чудесными улыбками, машешь руками, точно крылышками… Солнце. За окном снежный март. Ты, маленький, как котёнок, в моих ладонях. Чувствую себя большой кошкой, даже урчать хочется от нежности…
…А потом ты увидел свои пальчики. Это было настоящим открытием для тебя. Крошечные создания вспархивали над тобой, их было много, и каждый жил как бы сам по себе. Тебе захотелось посмотреть на них поближе – и они тут же приблизились к твоему лицу. Тебе захотелось попробовать их языком, и они чудесным образом отгадали твоё желание – и тут же оказались у тебя во рту. Они были тёплые, мягонькие и пахли молоком. Они мгновенно исполняли малейшее твоё желание, ещё не осознанное, ещё не имеющее названия. Но они догадывались о нём – и тут же исполняли, и ты счастливо смеялся, повизгивая от удовольствия… Эти послушные, ласковые существа надолго заняли твоё воображение, завладели твоим вниманием.
Теперь день начинался с приятельского приветствия и заполнялся игрой, которая не могла наскучить, у которой не было конца…
Неужели ты уже никогда не будешь таким, как сегодня? Время так летит… Хочется удержать в памяти каждую минуту. В тебе – стремительные перемены, словно время для тебя течёт по-другому…
Стоит мне ненадолго выйти из комнаты, возвращаюсь – ты уже новый, незнакомый. Что-то успело произойти в тебе за эту минуту, что-то важное, глубинное, наполнившее твой взгляд новым выражением, новым смыслом… «Здравствуй!» – говорю я тебе. – Здравствуй!»
Ты для меня – необъятный, непостижимый мир. Умом не постижимый – постигаю сердцем. Взгляды, улыбки, прикосновения – те тропинки, по которым мы идём друг к другу…
…Измученная твоей бессонницей, возила тебя на консультацию к профессору.
К специалистке по родовым травмам. Профессор только взяла тебя на руки, а ты как закричишь: «Ма-ма-а!..» Она засмеялась и говорит: «Маму любить очень будет».
Сказала, что мы ещё хорошо отделались, могло быть и совсем плохо.
Слишком трудным был для тебя приход в этот мир. И бессонница твоя – от усталости. Слишком устал…
Теперь лечимся. Даю тебе лекарства, прописанные профессором. Пьёшь безропотно.
Научилась делать массаж. Купаю тебя в травках: ромашка, шалфей, череда – так пахуче! Травяные купания посреди зимы… После купания круглые крошечные пятки – розовые, как лепестки шиповника…
Каждый день – снег, а то и метель. Ещё и это испытание.
Родился в 36-градусные морозы, и вот уже марту конец, а зима всё бушует, и не видно ей конца…
А твою бессонницу мы вылечим, малыш. Обязательно вылечим.
Ты во всём зависишь от меня. А я – от тебя.
Врачи говорят: набирайтесь терпения. Пророчат: будет много болеть, болеть будет трудно.
Учусь не впадать в панику, не отчаиваться. Учусь быть всегда в хорошем настроении, ведь моя улыбка – твоё первое лекарство.
Всматриваюсь в тебя. Вслушиваюсь. Ты так сложно устроен… Подскажи.
Научи. Научи быть твоей мамой. Твоим лекарем. Твоим ведом.
Да, доктора, конечно, правы. Конечно, нам нелегко. Но «трудно» не значит «невозможно». Доктора не знают самого главного.
Они не знают, как я люблю тебя. Не знают, какой ты чудесный учитель и какая я старательная ученица. Я у тебя. Ты у меня.
…Удивительно, как мало книг написано о вас, маленьких загадочных пришельцах. Как легко сводятся рассказы о вас к элементарному: купаниям, кормлениям, пеленаниям. Как обыденны эти практические советы, как далеки они от сути происходящего, происходящего у меня на глазах, изо дня в день – и всё равно покрытого тайной…
Маленький загадочный сфинкс, инопланетянин, пришелец из вечности.
О чем ты думаешь, когда между бровей твоих залегает мучительная складка, когда лоб твой покрывается старческими морщинами? Что ты думаешь о мире, в который пришёл? Что ты думаешь обо мне?
«Он ещё ни о чём не думает. Он ещё мал для размышлений». Не заблуждение ли это наше – обычное для нас, выросших из детских распашонок, выросших из тайны – и позабывших о ней?..
Не грустное ли это заблуждение?..
Никакие лекарства не в силах справиться с твоей бессонницей. Но не будем отчаиваться, малыш. Я уже не верю в таблетки и микстуры, но я верю в ритм! Верю в чудесный, целительный ритм пробуждений и засыпаний, прикосновений и разговоров, прогулок и купаний…
Даже цветок открывает и закрывает свои лепестки в один и тот же час, даже птица в лесу поёт свою песню в один и тот же час. В свой час. Даже муравьи знают час, когда закрывать входы в муравейник, и уносить в спальни своих куколок…
Я приучаю тебя слышать эту удивительную мелодию жизни.
Ты поплачешь, похнычешь, жалуясь самому себе на моё отсутствие, но твои глазки, насмотревшись на жёлтого лягушонка, висящего над твоей кроваткой, скажут: «Спать». Твои ручки, утомившись от порхания, и наигравшись друг другом, скажут: «Спать». Голосок твой стихнет и ты незаметно для себя прикроешь глаза… Даже цветы, даже птицы слышат и знают эту чудесную, волшебную мелодию просыпаний-кормлений-гуляний-засыпаний… Любой цветок, любая птица в лесу. Знают, когда петь, когда пить росу и клевать зерно. Любой цветок, любая птица в лесу…
Тебе два месяца! На дне рождения были приятель с женой. Как ты изучал рыжую бороду незнакомого дяди! Какие складки на лбу, сколько недоумения в твоих глазах, сколько вопросов на лице!.. Был нешуточно потрясен. Долго не мог уснуть от пережитого волнения…
А потом мы с гостями сидели на кухне и пили чай. Разговор не клеился. Заметила: стала некоммуникабельной. Не могу говорить ни о чём, кроме тебя, кроме того, что происходит сейчас с тобой, со мной, с нами.
Но об этом говорить трудно, почти невозможно.
Показывала твои первые фотографии. На них ты – двухнедельный. Маленький сфинкс…
Мило щебеча, Алёна спросила, не собираюсь ли я отдать тебя в круглосуточные ясли.
– Надеюсь, ты шутишь? – я не могла поверить, что она говорит это всерьёз.
– Почему шучу? Ольга отдала своего Илюшку в два месяца, и он очень быстро привык. Уже не плачет. Он знает свою воспитательницу, свою кроватку…
– …свою казённую кроватку? Узнаёт воспитательницу и не узнаёт родную мать? Ты бы ещё предложила отдать Антона в детский дом!
– Ты что, обиделась? – удивилась Алёна. – Я ведь тебе добра желаю. Нельзя же замкнуться в четырёх стенах и зациклиться на ребёнке. Конечно, он у тебя прелесть, но тебе нужно устраивать и свою личную жизнь.
– Моя личная жизнь уже устроена, – сказала я резко.
– Девочки, не ссорьтесь, – примирительно заурчал в рыжую бороду Лёвка. – Моя жена права: это ты сейчас кайфуешь, а через полгода не будешь знать, куда тебе бежать от этих пелёнок-распашонок…
– Вы-то почём знаете? – спросила я. Смотрела на них и не понимала, что делают в моём доме эти, ставшие вдруг чужими, люди, почему я сижу с ними за столом и угощаю их чаем с бабушкиным вареньем…
– Кто ж этого не знает?.. – пожал Лёвка плечами. – Между прочим, вишнёвое варенье – моё любимое. Да ещё с косточками!
– Прелесть! – поддержала его Алёна. – Меня от него за уши не оттянешь!
У моих приятелей детей нет. Не по воле судьбы, а по их собственной воле: они так решили. Я смотрела на них и удивлялась сама себе: о чём я могла прежде говорить с ними? Ну, да: о выставках, о книгах… О Мандельштаме, о Гумилёве… Лёвка мог говорить об этом часами… Еле дождалась, пока мои бывшие друзья ушли.
Хочется разговоров о главном. Хочется неслучайных лиц у твоей кроватки. Хочется настоящих встреч, настоящего общения.
«Но нельзя же быть такой максималисткой, – говорит мама. – Так ты совсем останешься одна…»
«Почему одна?..» – недоумеваю я, склоняясь над твоей кроваткой…
Апрель. Месяц третий.
Разговариваешь уже вовсю! «А-ы-го-оу-ии-ао-ау…» С удовольствием, смакуя, пробуя разные интонации и выражения. Такой говорун! Когда подхожу к тебе, весь пыл твоей загадочной речи устремляется ко мне.
О, как тебе не терпится выразить невыразимое! «А-ао-ау-ае…» Словно язык иной цивилизации, которая посылает мне свои таинственные сигналы: «Ау-оа…» Принять, понять, научиться твоему языку, научить тебя своему…
Никто мне не подскажет и не научит. Подскажут, в какое время дня лучше гулять, какими соками поить. Но кто мне поможет разгадать язык твоих улыбок и жестов, расшифровать язык твоего плача, кто мне поможет расшифровать твои бесконечные, певучие, загадочные «ае-ое-гоу-аа…»?
Я учусь. Учусь тебя понимать. Сегодня. Сейчас. Тебя, маленького. Тебя, двухмесячного. Твоё «ау-ао…» Я не пойму тебя завтра, если не пойму сегодня.
Чтобы потом, когда ты будешь взрослым, постучать когда-нибудь среди ночи в твоё окно: «Я пришла, потому что почувствовала: тебе плохо…»
Наша-с-тобой жизнь. От часа к часу всё удивительнее, всё радостнее, всё полнее. Сотканная из множества чудесных мелочей, больших и маленьких событий, важнее которых сейчас для меня ничего нет. Впервые самостоятельно перевернулся на бочок. Первые сантиметры, которые ты прополз с кряхтением и визгом. В этот день в Москве расцвела мать-и-мачеха…
Неделю болел, с температурой и покашливанием. Очень переволновалась за тебя. Вдруг почувствовала страшную усталость. Но ничего… Скоро лето. Должно же оно когда-нибудь придти!
За болезнь очень повзрослел. Ночью, когда пеленаю тебя, просыпаешься и улыбаешься мне. И до чего ж ты поддерживаешь меня своей улыбкой!
Пустышку не любишь. Очень смешно плюёшься ею, точно выстреливаешь.
А когда сосёшь, то держишь в уголке рта, как папироску.
Докармливаю из бутылочки. Ловишь её руками, как бабочку!
Вырастаешь из своих первых распашонок… Всё так стремительно, даже грустно немного. Неужели из дома детства ты вырастешь так же быстро, как из своих первых распашонок?..
Уже шестьдесят три сантиметра! Подрос со дня рождения на десять сантиметров! Длинные ножки. Ловкие, как у обезьянки. Когда целую тебя в пятку, – хватаешь меня пальцами ноги за губы. Смешно ужасно.
Приучаю чувствовать цвет: для купания всегда беру пелёнки и распашонки одного цвета. Бывает купание голубое и купание розовое. Кроватку тоже убираю пелёнками одного цвета.
Спать на третьем месяце стал совсем по-другому: уже не зарываешься в пелёнки, как в листву, спишь, разбросав ручки в стороны. И одеяло скидываешь. Но сон твой по-прежнему хрупок и прозрачен: просыпаешься от скрипа паркета, от вскрика птицы за окном…
Прежде, чем научиться спать, научился кричать. Тоже хорошее дело; чувствую, как крепнут твои лёгкие и голосовые связки.
Купаться обожаешь! Вода – твоя стихия. Разлучённый с водой, рыдаешь и кричишь: хочешь обратно. Даже любимая погремушка, три зелёных колокольчика, не могут тебя утешить: ты её просто не слышишь, так окреп твой голосок.
И тогда бабушка, помогающая мне одеть тебя после купания, однажды запела: «Я ковал тебя подковами железными…» Почему именно это? И сама не знает. Запела то, что первым пришло на память. И вдруг – крик прекратился и фонтаны слез будто кто выключил. Ты слушал, как завороженный…
Через несколько дней мне пришлось выучить слова этой песенки. Никакая другая не действовала на тебя так магически, а перепробовано их было немало. Даже ночью. Стоит тебе заплакать – я тут же начинаю напевать: «Я ковал тебя подковами железными…» И ты мгновенно затихаешь – и расцветаешь улыбкой!
Заметила, что, когда пою тебе «Старого извозчика», ты начинаешь названивать в такт погремушкой. Чувствуешь ритм!
Сшила тебе из тёплой нежно-зелёной фланели ночную рубашку, спальный мешок с рукавами. Первая ночная рубашка – тоже событие! Ты в ней – как Пьеро. Рукава длинные-предлинные (чтоб не играл ночью пальчиками), а у горла собрана на ленту, получилось что-то вроде жабо. Милый мой Пьеро, Пьерёночек…
Когда надеваю пинетки или ползунки, уже подаёшь ножку, сначала одну, потом другую. Шустрик глазастый.
Апрелю конец. Ветер, холодно. Мучительная весна в этом году. Хорошо хоть снегопады кончились.
Опять покашливаешь. Хворушка. Хворушка любимая. Урчалка. Взял соску – и урчит. Доволен.
Уже тянешься рукой к игрушкам. Любишь синюю рыбу, жёлтого лягушонка и красного медведя.
У моего ёжика на макушке вырос ёжик!
Чихнул. Опять… Вот горе-то. Уже месяц покашливает. Врач ничего не находит. «В легких хрипов нет», – уже привычная фраза.
Лежит, пузыри пускает, мурзилка. Очень у меня за него душа не спокойна.
Пошёл дождь, какой-то белый, крупный, похож на снег… Холодно, как осенью. Грустно.
Конечно, болеют все дети. Но разве от этого легче, когда болен мой единственный?
Три месяца. Четверть года прожили. Опять повалил жуткий снег – 28 апреля! Страшное ненастье. Прямо конец света. Тебе назначили десять уколов пенициллина. Кашляешь с каким-то металлическим свистом. Только что сделали первый укол.
Ну, вот и последний день апреля. Обещали снег.
Уколы переносишь стоически: крякнешь, всплакнёшь немножко и тут же улыбаешься, подбадриваешь меня своей милой беззубенькой улыбкой. Ты повзрослел за эти несколько дней четвёртого месяца. Неужели уже четвёртого?..
За ночь пелёнки и ползунки на лоджии прихватывает морозом, я вношу их, смешно-негнущиеся, пахнущие звёздным холодком, припорошенные искристым инеем… Вдыхаю морозный, свежий запах… Даже после того, как одежки отогреются в домашнем тепле и станут мягкими и покладистыми, – запах звёздного морозца остаётся в них, он веселит нас и придаёт нам – из ночи в ночь недосыпающим – бодрости и силы.
Запах звёздных глубин, из которых ты пришёл ко мне…
Твои глаза… Не глаза – а глазищи, тёмно-золотистые, опушённые чёрными густыми ресницами. Целая вселенная глаз… Живые, лукавые, внимательные, внимающие – то недоумённо-вопрошающие, то ликующие… Никто ещё не слушал меня с таким захватывающим вниманием. Ты весь обращаешься в слух, лишь только я заговорю с тобой, весь – до крошечного мизинца на ноге, застывшей на полпути к полураскрытому удивлённому рту… Ты ловишь каждое моё слово, ты будто вчитываешься в движения моих губ, моих мыслей…
Кто сказал, что первые месяцы дитя только ест да спит? Кто это сказал? Кому пришла в голову эта странная мысль? Что первые месяцы – лишь преддверие жизни. А может, это и есть самая настоящая жизнь?.. Ничем не замутнённая. Чистая, как снег. Ясная, как новолуние. Может, это и есть… Время созерцания и постижения. Это и есть.
Ты каждую минуту – другой: новый, незнакомый. «Торопись, не отставай!» – словно бы говоришь ты мне своими улыбками, своими машущими руками, точно крылышками. «Не отставай!» – слышится мне в твоих загадочных «ау-ао-ии-аэ…»
Гуляя с тобой по комнате, подношу тебя к окну. За окном – снег…
Он белый и косматый, он приникает к самому стеклу, но ты не пугайся.
Он добрый. Добрый белый снег. Он уже апрельский, уже весенний. Хочешь познакомиться? Я распахиваю форточку – и снег влетает в дом, белый, тёплый, пушистый…
Смотрю вместе с тобой в окно – и это уже не просто окно моего дома. Это – окно твоего детства… Острый запах снега вливается в открытую форточку. Это – пахнет снег твоего детства…
И в этой белой кутерьме мне видятся одуванчики твоей первой весны, твоего первого лета…
Глава 4. Когда я вспоминаю твоё первое лето…
Когда я вспоминаю твоё первое лето, я будто вдыхаю острый запах частых гроз и ливней. Слышу гудки теплоходов, ползущих в тумане по каналу. Вижу низкое, полыхающее оранжевыми молниями, небо. Коляска на лоджии ходит ходуном. Тебя укачивают, баюкают дождь и ветер…
Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю белый яблоневый сад во дворе твоей будущей школы. Ты спишь под цветущей яблоней, сыплющей на тебя лепестками… Прохладные лепестки падают на одеяло, касаются твоих щёк. Чуть-чуть подрагивают длинные, на полщеки, тёмные ресницы. Ты спишь, а белая яблоня осыпает тебя лепестками…
Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю первую, увиденную тобой бабочку. Она села тебе на грудь – на зелёные, в жёлтых цветах, ползунки, и вы оба замерли – два мира, две вселенные, взглянувшие в глаза друг другу…
А ещё я вспоминаю твою любимую лиственницу. Каждое утро мы приезжали к ней – под её пушистые, низко склонившиеся ветви. Она окутывает тебя легкой, нежной тенью… Она склоняется над тобой мягкими, пахучими ветвями… Ты хватаешься за шелковистую хвою, притягиваешь ветку к самому лицу, к глазам, изумляясь, восторгаясь этим чудом. Щиплешь мягкие, нежные иглы, осыпаешь всего себя, пробуешь их на вкус… Смеешься и лопочешь…
Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю учебники, валяющиеся на траве в жёлтых одуванчиках… У меня – сессия. Но я не могу оторвать взгляда от твоего лица, боюсь пропустить малейшее его движение. Ни один учебник не расскажет мне больше, чем твоя улыбка, твой взгляд. Колышутся над тобой мохнатые ветви, проносятся в стремительном полете стрекозы, перекликаются звонкими летними голосами птицы. Ты весь – внимание. Удивлением, радостью, восторгом откликаешься ты на колыхание солнечных пятен и теней, на звуки и запахи твоего первого лета, держащего тебя в своих тёплых ладонях…
Вспоминаю и наши первые разлуки… Я уезжаю на экзамены. За три-четыре часа истоскуюсь так, что на обратном пути от метро бегу бегом. Бабушка, остающаяся с тобой, говорит, что ты тоже скучаешь по мне: без конца поглядываешь на дверь. Скорее, скорее увидеть тебя! Вдохнуть твой чудесный молочный, цветочный аромат, уткнуть лицо в твои ласковые ладошки…
А ту – нашу первую с тобой – сессию я всю сдала на отлично.
…Конечно, я помню и серую надувную лошадку в розовый горошек. В шесть месяцев это одна из твоих любимых игрушек. Больше всего тебе нравится, когда я просовываю голову лошадки между деревянных прутьев манежа, лошадка кланяется тебе и говорит «Ку-ку!» В ответ – буря восторга: визг, радостные крики, смех, дрыганье руками и ногами, кувыркание со спины на живот и с живота на спину…
Но однажды… Однажды я оплошала. До сих пор ты был уверен, что кукует лошадка. И в этот раз она, как обычно, просунула к тебе свою голову в розовый горошек, поклонилась, но в тот момент, когда она произносила свое «ку-ку», ты неожиданно перевёл взгляд на меня. И… увидел, что кукую я. А вовсе не лошадка. До сих пор помню твой взгляд, полный недоумения и разочарования. И вдруг… нет, не слезы. Ты заливисто засмеялся, открыв два беленьких зуба на нижней розовой десне. Ты смеялся надо мной. Над моим неумелым розыгрышем. И над собой! Над тем, что так долго позволял себя разыгрывать.
Но ты не утратил интереса к этой игре, даже напротив! Теперь-то она и стала в полном смысле слова . Теперь ты не просто зритель, но и участник её. Игра заключается в том, что я стараюсь как можно незаметнее сказать свое «ку-ку», а ты стараешься подловить меня. И делаешь это для своих неполных семи месяцев довольно хитро: в тот момент, когда должно прозвучать «ку-ку», ты быстро зажимаешь лошадке рот – и лукаво-выжидательно смотришь на меня: раздастся ли в этой ситуации «ку-ку»? И, если я, «не заметив» твоей хитрости, всё же прокукую, – ликованию твоему нет предела… игрой
Когда я вспоминаю твоё первое лето, я вспоминаю двух задумчивых стрекоз… Ты спишь, по румяному лицу пробегают мохнатые тени ветвей. Ты подрастаешь, а лето уже совсем пахнет осенью… Последние августовские дни: травы ещё высоки и пестреют цветами (в это время особенно много цветов!), листва тёмная, свежая от дождей – такое буйство жизни кругом!
И всё это источает щемящий запах неизбежного, скорого конца… С тех пор, как ты родился, в моём сердце настоящий бунт: ну, почему, почему всё обречено на смерть? Не могу постигнуть жестокую логику умирания, эту страшную тайну…
Небо над нами – синее и холодное, и солнце яркое и негреющее – как осенью. Ты спишь на ромашковой полянке. Две огромные стрекозы сели к тебе на одеяло и, глядя на них, даже не зная календарного числа, можно безошибочно сказать: осень. Такие они были задумчивые и никуда уже не стремились, одна зеленоватая, другая красненькая, думали свою августовскую думу. Думала её и я, и было мне грустно…
А ПОТОМ ПРИШЛА ТВОЯ ПЕРВАЯ ОСЕНЬ…
Потом пришла твоя первая осень, и нам подарили пластинку с лютневой музыкой.
Черный диск медленно вращается, отбрасывая на стены солнечные блики… Ты сидишь в манеже. Тебе восемь месяцев. Лютневая осень… Золото берез… Вращается чёрный, сверкающий диск, сыплется золотая листва… Тёмно-золотая глубина твоих глаз…
Ты смотришь на меня вопросительно, умоляюще, с недетской мукой, требующей немедленного разрешения. Ты ещё так мал, что не в силах понять и объяснить, что творится сейчас в твоей душе, откуда эта светлая и мучительная лавина чувств, ещё не испытанных тобой дотоле?.. Ты просишь моей помощи, ждешь от меня ответа на свой невысказанный вопрос.
– Это – музыка, – говорю я тебе. – . Музыка
– Зы-зы? – переспрашиваешь ты, и я читаю в твоём лице облегчение, оттого, что ЭТО имеет название.
– Зы-зы! – просишь ты. – Зы-зы! – требуешь страстно, настойчиво, и только, когда я вновь ставлю иглу на диск, и комната наполняется золотым звучанием солнечной лютни, ты затихаешь и замираешь, вцепившись руками в деревянные прутья манежа. Вращается пластинка, падает золотая листва, комната залита ярким октябрьским солнцем… Темно-золотая глубина твоих глаз… ты смотришь, не мигая, куда-то мимо меня – как смотрел в первые недели своей земной жизни…
– Зы-зы! – требуешь ты, как только музыка замолкает.
– Зы-зы! – просишь, едва проснувшись, по утрам.
– Зы-зы! – звенит твой голосок с утра до вечера…
Первая любовь. Первое увлечение. Первая страсть.
…И сейчас, спустя девять лет с той, первой твоей – лютневой – осени, старый уже, потрескивающий диск – твой любимый. Теперь – его звуки возвращают тебя в пору твоего раннего детства. Но куда они возвращали, куда звали тебя, когда было тебе восемь месяцев от роду? На это никто и никогда не даст мне ответа…
В доме появились часы с кукушкой. Кукушка – твоя первая подружка. Каждые полчаса она выскакивает из своего домика: «Ку-ку!»
Ты откликаешься радостным визгом, звонким, захлебывающимся от восторга: «Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!..» Ты скачешь у меня на руках, ты готов выпрыгнуть, готов улететь, машешь, машешь руками-крылышками…
Твой звонкий и властный голос, восторг и изумление распахнутых глаз, любопытные, нетерпеливые пальчики, которым всё нужно пощупать, потрогать, восемь белоснежных молочных зубов (восемь месяцев – восемь зубов!), тёплый каштановый вихор на макушке, чудесный мир твоих улыбок – ласковых, лукавых, загадочных, приветливых и счастливых… Боже мой, как я жила прежде? Чем я жила, когда у меня не было моего чуда – этой беспредельной, тёплой, ароматной, светящейся вселенной?..
ЗИМА НАЧАЛАСЬ ВДРУГ…
Золото осени за ночь остекленело, покрылось серебром инея – и утром повалил снег, белый, пушистый… В октябре.
«Я помню этот снег!» – говоришь ты задумчиво и радостно-удивлённо в начале каждой новой зимы, когда первые снежные хлопья ложатся на землю. «Он падал… Такие огромные-огромные хлопья… И ты колясочку ещё застегнула. А коляска была голубая…»
– Неужели помнишь? – в который раз изумляюсь я. – Тебе ведь и десяти месяцев не было…
– Я помню! Помню этот снег!..
Твое первое лето вместило в себя две зимы. Ту, первую, метельную, которую ты не можешь помнить, и эту – с твоим первым воспоминанием…
Белые мохнатые хлопья за окном… Ты сидишь в кресле-качалке. В руках у тебя скрипка. Ты щиплешь пальчиками её струны, но они молчат, не отзываются… Когда-нибудь я расскажу тебе, сынок. О том, как всё неслучайно в жизни. И про зонт в заплатах расскажу, и про скрипку…