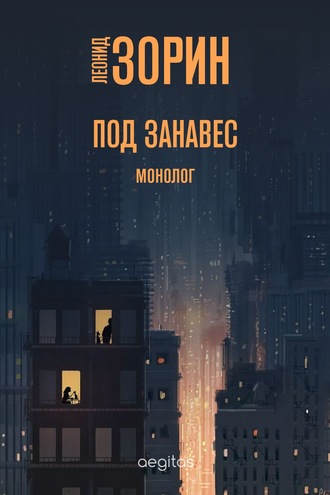
Полная версия
Под занавес

Леонид Зорин
Под занавес
монолог
© Зорин Г.А., 2020
© Издательство «Aegitas», 2020
1
Не хочу!
Что означал этот выкрик обычно спокойного малыша? Никто из взрослых так и не понял, чего он не хочет, на что возроптал. Да вряд ли и он бы сумел объяснить.
Лишь ныне, уже на исходе срока, я, как мне кажется, смутно догадываюсь.
Был ослепительный южный полдень, был Каспий, был приморский бульвар, опоясанный бухтой. У входа в городские купальни, на обросшем зеленым мхом поплавке, сидел босоногий дородный грек в тельняшке, с заломленной на голове белой лоснившейся капитанкой. Ветер был ласков и дружелюбен. В небе лениво перемещались неторопливые облака. Все вместе сливалось в такой лучезарный, такой языческий праздник лета, что смуглый мальчик вдруг ощутил, как он не хочет, как это жестоко, что у него однажды отнимут, навеки отберут этот день.
Выразить внятно это бунтарство, тем более растолковать его людям, он, разумеется, был неспособен, и оставалось лишь возмутиться, лишь крикнуть о своем несогласии.
Открытие мира произойдет, когда он отплачется, откричится. Ему еще предстоит узнать: на этом благословенном юге можно родиться, но жить и взрослеть приходится чаще всего на севере.
С того золотого бакинского лета прошло, пронеслось, ни много ни мало, девять стремительных десятилетий. Как обнаружилось, очень недолгий, больше того, мгновенный срок.
Само собою, лишь для меня. Все остальные почтительно-сдержанно, грустно покачивают головами, не слишком хорошо понимая, каким манером я все еще здесь.
Да, невзирая на все законы – и божеские и человеческие – не уймусь, не смирюсь, не устану, по-прежнему выхожу на охоту.
Подобно тому, как мне не понять причины своего долголетия, я не возьмусь объяснить, что за леший вдруг усадил за письменный стол четырехлетнего человека.
Но так случилось, но так срослось, и вот уж девять десятилетий мотаю свой пожизненный срок и знаю, что никуда не денусь, что вынесут ногами вперед.
При этом я так и не смог привыкнуть к слову «писатель», оно мне долго казалось звучавшим претенциозно, почти как слово «аристократ», даже и слово «литератор» произносил не очень уверенно. Но надо же как-то именовать свой подозрительный род занятий, определить свое место в обществе.
2
В столице с господствовавшим в ту пору суровым институтом прописки я многие годы жил нелегалом. Таким, как я, полагалось укрыться, не привлекая к себе внимания. Моя же работа исходно имела прямо противоположную цель – я должен был вызвать живой интерес театра и зрительного зала. При этом не дразня альгвазилов. Задача, схожая с головоломкой.
Но мне она послужила во благо. Окрепла потребность в своем убежище, в своей светелке, в укромной норке, где можно неприметно трудиться. И даже когда, наконец, ушло жизнеопасное лихолетье, осталась со мной, никуда не делась. Больше того, я ведь и сам не захотел от нее исцелиться.
Похоже, что по прихоти звезд я был из племени тех счастливчиков, которым благоволят обстоятельства. И видит бог, ничего не делал, чтобы приворожить удачу. Верил, она придет сама.
Меж тем, то были жестокие годы. Рядом со мной каждодневно обрушивались судьбы ни в чем не повинных людей. Они узнавали, что эта земля, эта страна, в которой однажды они появились на белый свет, чужая земля и они – чужие. Их жизни и жизни их детей цена – копейка, ломаный грош, расстаться с ней ничего не стоит.
Диктатор, подчинивший страну, был исступленно честолюбив. Тут все сошлось – несчастливое детство в угрюмой неласковой семье, тоскливый провинциальный быт, особая семинарская выучка. Все вместе вылепило характер твердый и скрытный, коварный, темный, с душевным подпольем, способный к мимикрии, умеющий таиться и ждать.
Невероятная, сверхъестественная, поистине абсолютная власть упала, как яблоко, в его руки. Он знал, что отныне самое главное, единственно важное дело в жизни не упустить ее, не обронить, не поступиться хоть малой долькой. Все прочее вторично, побочно, третьестепенно и несущественно.
Он создал непостижимый режим, какого еще не знала история. Такого не удалось возвести ни фараонам, ни императорам. Ни Юлию Цезарю, ни Петру. И каждое крохотное колесико в этом отлаженном механизме крутилось в заданном направлении. Машина должна работать четко, чтоб без его верховной воли ничто не шелохнулось, не дернулось, не просочилось в случайную щель.
Даже и смерть его, тягостно долгая, когда изнемогшая старая плоть валялась на полу и никто не поспешил, не посмел войти, поднять обессилевший полутруп, даже и смерть была такой же страшной, фантомной, нечеловеческой, какою была эта черная жизнь.
Когда наконец его не стало, он напоследок увел за собою новые сотни загубленных жертв, расплющенных в давке еще одной никого не щадящей, самоубийственной Ходынки. Ополоумевшая Москва ринулась проститься с тираном, еще раз увидеть это застывшее непроницаемое лицо.
Когда отзвучали прощальные речи еще не веривших в свое счастье, немногих уцелевших соратников, громадная выстуженная страна, казалось, замерла в ожидании: куда качнется повисший меч над обезглавленным государством, что будет завтра, чего нам ждать? Было тревожно и сиротливо.
3
Это тридцатилетнее царствование – не зря диктатор в письме к своей матери то ли обмолвился, то ли похвастал: «я – царь», хотя никакому царю не снилась такая нечеловеческая, такая первобытная власть – это людоедское торжище создало, изваяло, вылепило новый человеческий род. Умеющий строить и воевать, страдать и терпеть, прощать злодейства, но не способный естественно чувствовать, отважно мыслить, свободно жить.
В эти тревожные, непонятные и неустойчивые дни, на историческом перекрестке – как ясно мы его ощущали! – свел я знакомство с одним жовиальным и обаятельным киевлянином. Звали его весьма необычно – Марселем Павловичем – я, разумеется, не без труда справился с вульгарным соблазном спросить его, лестно ли оказаться тезкой знаменитого города с многозначительной репутацией.
Но это имя ему подходило, как говорится, пришлось по мерке. Был он веселый, ко всем расположенный, легкий, приветливый человек. И вместе с этим весьма преуспевший, самодостаточный адвокат, известный не только в родном своем городе.
Была у него достойная страсть – он исступленно любил театр, не пропускал ни одной премьеры, приятельствовал, а то и дружил со всеми имевшими отношение к этому пестрому, шумному миру, даже квартира его находилась в шаге от театрального здания – после спектаклей к нему захаживали люди, обычно принадлежавшие все той же милой ему среде, их неизменно поджидало гостеприимное застолье.
Понятно, что мы не могли не встретиться и почти сразу же задружились – он обладал врожденным даром внушать симпатию и доверие. Когда я оказывался в Киеве – там шли мои пьесы, – я неизменно был гостем этого теплого дома.
Должен сознаться, его оптимизм был причиной наших дискуссий. Меня поражало, что он сохранился не в розовом птенчике, не в юнце, далеком от реального мира, а в тертом калаче и законнике, в испытанном профессионале, знающем не понаслышке, как трудно ладить с нашей родной Фемидой.
Я был еще молод, еще запальчив, однако мог бы и догадаться, что, будь он таким неуязвимым, не посвятил бы себя профессии, почти утерявшей былое значение. Вот уже несколько десятилетий в нашей юстиции правила бал только презумпция виновности.
Всякие толки о том, что в процессе возможны полемика и состязательность, в сущности, были лишь данью традиции, утратившей какой-либо смысл.
И все же те, кто воспринимал адвокатуру как дело жизни, кто не был в ней холодным ремесленником, все понимая и все предвидя, по-прежнему уповали на логику, на римское право, на аргументы.
Давно уже все переменилось на белом свете, давно уже не было ни той публики, ходившей в суды, словно в театры, ни златоустов, ни чутко им внимавших присяжных, но все еще славились имена Плевако, Спасовича, Карабчевского, почтительно вспоминали о чуде, которое сотворил Александров, – добился полного оправдания Веры Засулич, стрелявшей в Трепова.
Быть может, то ли на дне сознания, то ли в сердечной глубине живет потребность в подвиге духа, одолевающего материю, древняя детская мечта: «Пусть же хоть раз победит слабейший!».
Марсель Павлович не упускал возможности напоминать мне невзначай, между делом, о том, как он любит свою профессию, что он обязан ей даже тем, что не связал своей жизни с театром. «Я непременно бы угодил в этот колодец и утонул. При неумеренной возбудимости, которой меня наделили предки, я рисковал наделать глупостей. Непросто даже вообразить, сколь эфемерно и унизительно стало б мое существование. Но слава богам, мозгов хватило. В какой-то мере адвокатура мне заменила Мельпомену. Своеобразные подмостки. И тоже – с возможностью самовыразиться».
И вот однажды эта удавшаяся, прочно налаженная жизнь вдруг угрожающе накренилась.
Отлично помню мартовский день, когда неожиданно он позвонил, сказал мне, что «клубок обстоятельств» заставил его прибыть в столицу, а вскорости появился и сам.
Он резко, разительно изменился, стал не похож на себя самого. Вместо уверенного в себе розовощекого острослова я обнаружил совсем другого, перелицованного человека. Его вальяжный голос утратил баритональное звучание, послышались совсем незнакомые, высокие дребезжащие нотки. Но даже не засбоившая речь, больше всего меня поразила его виноватая улыбка.
Мало-помалу, с усилием, сбивчиво, он рассказал свою историю.
Была она связана не с бедою его очередного клиента, попавшего в жернова правосудия, а с крайне неординарной личностью, принадлежавшей судейскому корпусу.
Судьи, как правило, проходили проверенный неизменный маршрут, давно утрамбованную дорогу. Не отклоняясь и не сворачивая – от первой до последней ступеньки.
Он добросовестных секретарей до главного судейского кресла. Чаще всего это были дамы в возрасте от сорока до пятидесяти, суровые, жесткие, с невозмутимыми, словно отключенными лицами, с речью, лишенной не то что эмоций, но и каких-либо интонаций.
За этим загадочным, грозным спокойствием угадывалась многолетняя школа, она их отладила, отшлифовала, избавила от любых излишеств. Есть Библия уголовного кодекса, есть соответствующие статьи, все предусмотрено, все регулируемо, есть, разумеется, Конституция.
При этом надо иметь в виду, что Конституции присуща некая изначальная двойственность – с одной стороны, она декларирует неукоснительные Обязанности, с другой стороны в ней есть и раздел, изрядно осложняющий жизнь, который защищает Права.
Нет более лукавого термина, чем правовое государство. Взрослые люди отлично знают, что в нашем рациональном мире это неизбежная дань традиционным священным коровам, что государственные институты не могут опираться на лозунги.
Ибо где права, там свободы, а где свободы, там неизбежно брожение, переходящее в хаос. Поэтому закон суров, и суд, который его воплощает, обязан быть таким же суровым. Это отчетливо сознает любой ответственный государственник. Равно как и все взрослые люди.
Вот почему старушка Европа рискует однажды пойти ко дну, а выживет Азия – к ней, большей частью, относится и наш материк. Те, кто величественно открещиваются от скифских предков, должны им радоваться – возможно, они и есть – наш шанс.
В истории счет идет не на годы, а на века и тысячелетия. Китай это понял давным-давно, поэтому поступь его неспешна. «Хома угей». Пусть идет, как идет. Те, у кого в запасе вечность, не дергаются, не суетятся.
4
Вернемся, однако, к нашей истории.
Система требовала от приобщенных неукоснительно соблюдать все общепринятые правила и все условия этой игры.
Насколько трудно было взлететь, настолько же легко было рухнуть.
Известна была такая притча.
Допрашиваемый «качает права» и даже строптиво напоминает:
– Я подследственный, а не обвиняемый.
Следователь неторопливо встает, приглашает его подойти к окну:
– Смотрите.
Кивает на горожан, быстро пересекающих площадь, на переполненные автобусы.
– Вот это – подследственные.
И уточняет:
– Пока подследственные. Усвоили?
Весьма поучительное напутствие не только для возможных сидельцев, но и для молодых юристов. Без глупостей, всяк сюда входящий. Тонкие чувства оставь за порогом.
Должно быть, поэтому столь резонансной была история судьи Анны Гурьевны, обозначим фамилию буквой О.
Это была еще не старая, следившая за собою женщина с правильными чертами лица, с безукоризненной биографией, со столь же безупречной анкетой. Ей, судя по всему, предстояла долгая беспорочная деятельность и впечатляющая карьера.
И вот однажды случился сбой. В одном привлекавшем к себе внимание, сложном, неординарном процессе она, похоже, переусердствовала с установлением обстоятельств и также некоторых несоответствий. На прокурора нежданно-негаданно свалились тягостные заботы.
Как было сказано, это дело имело путаную историю, свое особое закулисье и деликатные подробности. Не станем рассказывать весь сюжет, напоминать имена и фамилии. Тем более что речь не о них, а о забуксовавшем колесике непогрешимого механизма.
Реакция смущенных коллег была и нервной и предсказуемой. Вокруг Анны Гурьевны, как по команде, возникло угрюмое, настороженное, вдруг обезлюдевшее пространство. Коллега, как видно, вообразила, что можно не только карать, но и миловать. Опасные игры. Закон суров.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









