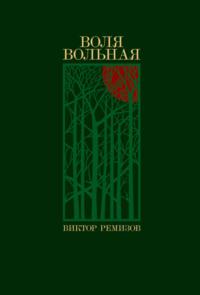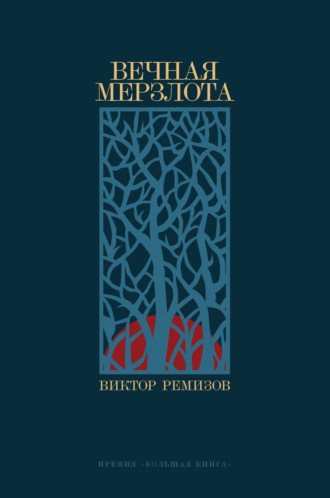
Полная версия
Вечная мерзлота
– Так, конвой! Развести всех по местам работ!
– Гражданин начальник, – поднялось сразу несколько рук, – мы согласные!
К вечеру высокая двадцатиметровая палатка, издали похожая на деревянный барак, стояла хорошо натянутая на каркас. Мужики, за долгий этап соскучившиеся по простой деревенской работе, разохотились, стырили где-то досок, настелили и даже отстрогали пол. Вставили окна из оргстекла, из остатков досок сделали стол, две лавки и маленькую скамеечку. Сидели, довольные, как все натянуто и сработано. В столовую уже второй раз пронесли термосы с едой, но мужики не расходились, ждали обещанного хлеба. Белозерцев пришел с красиво написанным «Распорядком дня заключенных».
Один из плотников, седой старичок-костромич, взялся изучать. Сначала одобрительно поводил заскорузлым пальцем по аккуратной рамочке, потом стал читать по слогам, крепко нажимая на «о»:
– У-твер-жде-но Мэ-Вэ-Дэ Сэ-Сэ-Сэ-Рэ, – поднял удивленный взор на товарищей. – Чой-то?
Мужики засмеялись, особенно самый молодой, прямо пополам сгибался.
– Вы-вы-ши… ва-ется… в жилах… – да чой-то за слова таки? – костромич в досаде сунул рамочку в руки соседу.
– Дай-ка, дядя! – молодой взял и стал бойко читать: – Вывешивается в жилых помещениях для заключенных! Вот! Для тебя написано! Подъем заключенных производится, как правило, в шесть часов!
– А можно бы и в полседьмого, не отлежали бы бока!
– У нас дневальный сегодня аккурат на час раньше разбудил, паскуда… перепутал, гад… – сказал самый маленький и угрюмый.
– Подъем, окончание работы, сбор на поверки, отход ко сну объявляются установленным по лагерю сигналом, – продолжил чтение молодой.
– Это чего ты сказал? – все не понимал костромич.
– Вот ты, дядя! Топорик-то у тебя в руках как птичка летает, а мозгу-то нет совсем! Про рельсу тебе написали русским языком. Ты что делаешь, когда рельсу слышишь?
– Чово… – хитро ухмыльнулся старичок. – Бушлат на голову натягиваю, вот чово… Как все!
– Ага, вертухаев с палками ждешь! – заржал молодой.
– У нас на Колыме рельсу эту поганую «цингой» мужики прозвали, – сказал угрюмый.
– Чего ты там все неинтересное читаешь, ну-ка поищи чего посмешнее!
Молодой побежал глазами по строчкам.
– Во! Для заключенных устанавливается девятичасовой рабочий день, с предоставлением четырех дней отдыха в месяц, а также общеустановленных праздничных дней.
– Вот это подходяще! Это, я вижу, хороший лагерек! – закивал седой головой костромич. – Я бы в таком поработал! Это же какая справедливость важнеющая! У нас и в колхозе такого не бывало! Четыре дня выходных! А про зачеты там не сказано?
– Во, смотри… – перебил чтец, – обязанности твои тут! «Беспрекословно подчиняться и выполнять требования конвоя, надзирателей, технического руководства и администрации, звеньевых, бригадиров, мастеров, руководителей работ, начальников цехов и т. п.»
– Собак забыли, – притворно сокрушился костромич. – Нет там про собак-то? Их-то обязательно… я оплошал третьего дни на этапе, а она возьми и поучи меня за штаны-то! Вот! – он ловко повернулся на лавке и показал большую заплатку. – До мяса, Господь уберег, не достала! Второй год сижу, а первый раз такая оказия! Штанов-то как жалко!
Все засмеялись. Принесли обещанный лейтенантом хлеб.
Горчаков, не обращая внимания на балагуривших плотников, обживал новый медпункт. Из старого лазарета перенесли кое-какую мебель, шторы из мешковины, матрасы. Георгий Николаевич стоял среди пустого пространства палатки и о чем-то сосредоточенно думал.
– Вот мужики пол сделали, Георгий Николаич, – восхищался Белозерцев, выметая стружки, – как бы из-за него не отобрали у нас эту палатку. И от вахты недалеко… может, чем его позагадить? Как думаете? Говнеца какого не поискать?
Ночью начал быстро подниматься Енисей. Штабеля пиломатериала, выгруженного сразу за торосами, зашевелились, заливаемые водой. Пригнали сотню полусонных работяг из-за колючки, и те, мокрые, кто по колено, а кто и по пояс, перетаскали все выше на берег. Покидали небрежно, огромной горой, ощетинившейся во все стороны брусом, углами щитов и досками.
Когда заводили обратно в зону, одного недосчитались. Подняли весь полуторатысячный этап, что кемарил у костров. Построили и остаток ночи продержали на ногах. Считали, пересчитывали, путались с формулярами. Всем было понятно, что исчезнувший, скорее всего, просто сорвался с тороса и утонул.
Ночь была светлая, безоблачная и от этого казалась еще холоднее. Людей выстроили прямо среди неубранных деревьев и кустарников. Зевали в строю, спали стоя, кому повезло – облокотился на ствол или присел в серединке. Редкий конвой тоже клевал носом, только овчарки с голодухи принимались вдруг свирепо орать, на них от усталости уже не обращали внимания.
Лейтенанта Иванова подняли среди ночи. Он сидел на ящике, допрашивал и аккуратным почерком записывал показания. До самого солнца держал всех на ногах. Формально ответственным за случившееся был старший сержант, но он отпирался, валил на то, что он начальник караулов двух барж, что стрелков у него только на это и есть и что он не должен был охранять спецконтингент на берегу. Должен был сдать с рук на руки и все.
– Кому сдать? – негромко задавал вопрос Иванов.
– А я откуда знаю? – отвечал сержант виновато, но и злорадно. – Вон, есть у вас ВОХРа[15], пусть бы и брали! Я за баржи отвечаю… жратву выдали на две недели, а плывем месяц!
Старший сержант был старослужащий, воевавший, присел на корточки, он почти уже час стоял перед этим тупым летёхой со взглядом змеи.
– Встаньте хорошо, сержант! – лейтенант перестал писать и посмотрел на седоголового начальника конвоя долго и холодно. – Я ведь и наручники могу надеть!
Иванов хорошо понимал, что начальник конвоя прав, но фиксировать все, как есть, нельзя было. Охраны не хватало и на сотую часть заключенных – два взвода сидели на другом берегу Енисея, где их застал ледоход, а те полвзвода ВОХРы, о которых говорил сержант, охраняли стройматериалы – за них можно было получить похлеще, чем за утонувшего зэка.
Лейтенант задумывался надолго и с тяжелой внутренней тоской глядел на блеклое солнце, встающее в весеннем рассветном мареве с другой стороны Енисея. Лейтенанту, как человеку правильному, давно все было ясно, он ненавидел вечный русский бардак и русскую лень. Наверняка кто-то из зэков, а может, и конвойные видели, как тот доходяга упал в воду, но никто не дернулся помочь. Эту охрану можно поменять местами с зэками – ничего не изменится!
Сержант сидел рядом на пеньке, кашлял простуженно, сморкался в грязную тряпку и недовольно вздыхал. Так же кашляли, утирались рукавами и тихо разговаривали заключенные, освещенные красноватым утренним солнцем – тихий гул стоял над тысячной толпой. Никому здесь, начиная с Иванова, не было никакого дела до утонувшего, но особист обязан был провести расследование, а зэки обязаны были стоять там, где им укажут.
7
Сначала ледохода прошла всего неделя, но поселок было не узнать. Колесный пароход «Мария Ульянова» привез в Ермаково вольнонаемных, полтысячи человек охраны в новенькой форме, а в просторных трюмах еще один этап заключенных. Конвойные войска менялись на вохру, образовывались лагеря, колонны, командировки[16]. Назначались бригадиры, нарядчики, десятники и их помощники с дубинками или без. И начальство, и охрану вокруг работающих людей стало заметнее. Много привезли и овчарок, для них спешно строили вольер размером с небольшой лагерь. Многоголосый лай не стихал ни днем, ни ночью.
Гигантская разгрузка нарастала, вся узкая полоса вдоль Енисея была завалена горами стройматериалов, трактора урчали, пытаясь прочистить дороги на берегу и в тайге. Под пилами заключенных падала и падала тайга. Расчищались стройплощадки, ставились палатки – под жилье, склады, столовые и туалеты. Рабочих рук теперь хватало. За Ермаково начали огораживать два больших мужских лагеря, один женский и несколько отдельных вспомогательных лагерей, вроде «Разгрузопогрузочного» или ОЛП «Центральные ремонтные мастерские».
Охраны тоже было много, ели и спали служивые в таких же палатках, что и заключенные, на тех же сплошных нарах.
Утром Горчакову принесли на подпись акты о смерти на троих зэков. Трупов он не видел, это могло значить, что люди ушли в бега и их списали как утонувших. В неразберихе и то и другое было несложно. А может, и правда утонули. За беглецов с начальства спрашивали строго, за умерших – не так, дело было обычное. Горчаков подписал акты и начал собираться на очередной вызов. Его постоянно вызывали на травмы, и он ходил, хотя ни лекарств, ни перевязочных материалов по-прежнему не было, Шура Белозерцев рвал простыни длинными полосами и кипятил их в баке на костре.
Горчаков шел в дальний конец разгрузки. По берегу было не пройти, поэтому все ходили верхом, тайгой. Посторонился, пропуская небольшую бригаду работяг навстречу. Люди шли без строя, обходили деревья, конвоиры в узких местах, нарушая инструкцию, плечо в плечо сходились с заключенными. Оттаявшее весеннее болотце чавкало под ногами, его и не пытались обойти, всюду было одинаково, с всхлипами выдирали сапоги и ботинки. Последним, отставшим от колонны, шел солдатик с заморенной овчаркой. Пес был такой же молодой и такой же мокрый по самые уши, время от времени он посовывался в сторону или упирался, норовя освободиться от ошейника. Солдат замахивался концом длинного поводка, карабин сваливался с плеча, солдат неумело матерился и пытался пнуть пса.
Раненый лежал на берегу под высоким, почти отвесным склоном с острыми камнями. Лет тридцати и ярко-рыжий, его лицо было в ссадинах и запекшейся крови. Сквозь порванную казенную гимнастерку белела кожа, изрезанная камнями. У самой воды на бревне спиной к рыжему сидел седой мужик. Курил, глядя на быструю мутную реку. Едва обернулся на фельдшера.
Горчаков осмотрел раненого, попытался убрать из-под него острые камни, но тот громко застонал. Он не мог двигать руками. Это был перелом позвоночника.
– Давно караулишь?
Сторож обернулся, посмотрел с интересом на Горчакова:
– А тебе какой хер? Ты че, прокурор, мне вопросы задавать? – Горчаков и так видел, что он блатной, но тот еще и татуированные руки развел картинно, и головой закачал, будто она у него сейчас отвалится. Мелкая сошка, понял Георгий Николаевич.
– Когда он упал?
– Бочата[17] дома забыл! Марафету[18] нет ширнуться? У меня грóши имеются!
Горчаков осторожно вытащил камни, намочил тряпку и приложил к губам рыжего. Раненый почувствовал влагу, сглотнул, потом еще, еще.
– Не корячься с ним, – все так же, не оборачиваясь, выдавил из себя урка. – Его авторитетные люди приговорили…
Горчаков сел на бревно и достал папиросы.
– Курить будешь? – предложил урке.
– Свои имеем, – блатной достал курево из-за пазухи. На левой груди был неумело выколот профиль Сталина. Только усы похожи.
Прикурили от одной спички.
– В картишки фраера проиграл, а завалить забздел![19]– неожиданно пояснил урка.
Горчаков недоверчиво покосился.
– Не бзди, я тебя знаю. В прошлом году Паша Безродный у вас в лазарете припухал, а мы ему грелку привели… – урка изыскано сплюнул меж зубов. – Мужиком ее одели, налысо побрили и усы приклеили! – Он весело зыркнул на Горчакова. – Да помнишь ты! Ты в ту ночь дежурил! Чо ты?!
– Веронал есть… – сказал Горчаков, затягиваясь папиросой.
– На двоих хватит? – лицо седого насторожилось.
– Хватит. Лодка нужна.
– Что?! – у урки от возбуждения дергался глаз.
– Лодку пригонишь?
– Да где я тебе возьму, у меня мазýта[20] есть!
– Вон мужики таскают чего-то, пусть этого заберут…
Седой прищурился на лодочников, потом на тяжело дышащего рыжего:
– Ну смотри, лепила… у тебя с собой?
– До медпункта донесем, там отдам.
– Сам не потащу! Я чего тебе?! – Блатной выбросил недокуренную папиросу и, оскальзываясь на камнях, заспешил к мужикам, бечевой тянувшим несколько лодок вдоль берега.
Отправив раненого, Георгий Николаевич поднялся на обрыв и неторопливо двинулся тайгой в сторону поселка. Снег в тени деревьев сошел недавно, земля еще не отмерзла и идти было твердо. Вскоре звуки с берега совсем затихли, только ветер налетал на вершины да весенние пичужки щебетали. Улыбаясь чему-то внутри себя, Горчаков присел на валежину и достал папиросы.
В небе, приближаясь, мелодично перекликались небольшие гуси – казарки. Он задрал голову, отыскивая их сквозь прозрачные вершины сосен, – косячок небыстро летел против ветра над самым лесом. В памяти встала первая его самостоятельная полевая работа. В двадцать пятом году… Он дословно помнил начало того полевого дневника: «Я студент МГА[21], мне – 23, моему товарищу Борису Григорьеву – 21. Нас двоих забросили на оленьих упряжках на таймырскую речку. Вокруг бескрайняя дикая тундра. Вдали горы…» Дневник был наполнен романтикой, два студента ощущали себя героями-первопроходцами. И это было правдой. Горчаков, застыв, вспоминал все в счастливых подробностях.
Была середина июня, ненец, привезший их, уехал, они остались вдвоем и стали ставить палатку на льду заваленной снегом реки. Вокруг белая тундра. Только редкие вершины кустов торчали из-под снега вдоль берега. День уже стоял полярный, и солнце не заходило, им надо было дождаться, когда вскроется река. В первую же ночь завернула настоящая пурга, стало темно, пришлось пилить снег и строить защитную стену вокруг палатки.
Непогода длилась три дня. Делать было ничего невозможно, они спали и днем. Пурга кончилась внезапно, стало тише – заспанные выползли из спальников и прислушались. Ветер уже не выл, не свистел, не драл палатку, ее занесло почти полностью. Они выбрались наружу – погода менялась, вскоре совсем стихло, пробилось солнце и вместе с ним появились первые птицы. Это были гуси.
Студенты раскопали сушняк в прибрежных зарослях ивы, сварили чай. Воздух теплел на глазах, снег отяжелел, с пугающим шорохом осыпался с кустарников, они сидели у костра в одних свитерах, пили чай и громко радовались таким переменам.
Утром протаял береговой откос, а по белой тундре появились темные пятна. Гусей стало много, появились полярные совы, лебеди, черные турпаны[22]. Борис убил налетевшего гуся, они не доварили его, он был жесткий, но вкусный. Они мечтали, как поплывут на резиновых лодках, по утрам будут работать, а вечером охотиться и рыбачить.
На следующий день в тундру пришло настоящее тепло, и началась весна. Бугры оттаяли, всюду потекли ручейки и ручьи, а еще через день снег сошел совсем, будто его и не было.
Что тут началось! Кулики и кулички, чайки, крачки, утки. Песни, крики, драки! Начавшие линять, по-зимнему белые, но уже с коричневыми головками самцы куропаток хохотали от весеннего восторга на всю тундру, зайцы носились в брачных играх, облезающие грязные песцы бродили.
Вскоре речка поднялась, вспучилась бугром, взломала и унесла лед. Они накачали лодки и начали геологоразведку…
В первых числах сентября – тундра снова стала белой, а озера забирало льдом – они сворачивали работы. Оставалось всего несколько дней. В один из них Горчаков пошел прогуляться на соседнюю горку, откуда разглядел в бинокль большие охристые осыпи на склоне далекой горной гряды. Они могли образоваться только от выветривания сульфидных руд. Летом 1926 года он нашел там платиново-медно-никелевое месторождение, которое было названо «Норильск II».
Горчаков встал и двинулся дальше, думая о том, что ему тогда невероятно везло. С наивной молодой жадностью высчитывал он, сколько успеет сделать за отведенные ему пятьдесят лет. И вот ему почти пятьдесят…
С караванами барж должны были прийти письма от жены. Сразу три или четыре. Он ждал этих писем, но не был им рад. В прошлом году его судили в третий раз, оформили 58.10 и дали новый срок.
Осенью он написал Асе письмо, где просил больше ему не писать и считать себя свободной. Тогда он переживал это, теперь – нет. Его надежды, потрепанные за тринадцать лет лагерей, окончательно потеряли смысл.
Он прекратил переписку, но она писала.
Звуки топоров, ножовок и голоса людей раздавались все отчетливей. Горчаков вышел из леса. Между большим болотистым озером и берегом Енисея строили временное жилье для вольных. Копали ямы метровой глубины. В них ставили палатки. Такие же большие, как у зэков и охраны, но с окнами из оргстекла, утепленные войлоком и фанерой.
Люди работали весело, шутили и смеялись, где-то пели. Холостая молодежь в основном, но были и семейные – ребятишки крутились под ногами. Женщины копали ямы, раскатывали и резали войлок, развешивали белье на веревках, натянутых между деревьями. Мужчины ставили каркасы, колотили нары. На кострах варилась еда, ведерный самовар у кого-то дымил высокой трубой. Все походило на воскресный базар в богатом райцентре.
Ни колючки, ни вышек, никакой охраны, даже собаки лаяли тут иначе.
Рыжий во время перевозки пришел в себя. Наверх они несли его с Шурой Белозерцевым. Двое блатных ждали у медпункта своего марафета.
8
Почему, когда и в чьей голове возник замысел этой гигантской стройки в Заполярье – неизвестно, известно лишь, что в 1947 году Сталин дал ей ход.
В том году в СССР действовала карточная система. Не хватало хлеба. Люди голодали и даже умирали (по оценочным данным, от голода погибли от 200 000 до 1 000 000 человек). Множество городов и сел лежало в руинах, катастрофически не хватало жилья, больниц, школ, рабочих рук и специалистов, элементарные одежда и обувь распределялись по карточкам. Восстановление экономики и нормальной жизни людей, по-видимому, и было насущной проблемой страны, но стареющий вождь СССР мыслил другими масштабами. Экономика страны была перегружена великими замыслами и стройками вроде Главного Туркменского канала или Сталинского плана преобразования природы. Проектов было много, они требовали колоссальных человеческих и материальных ресурсов.
Возможно, так семидесятилетний человек, обладающий абсолютной властью над покоренным советским народом, пытался продлить свою жизнь в веках. Руками миллионов заключенных копал, прокладывал, возводил, покорял… Ставил памятники своему гению.
Великая Сталинская Магистраль – железнодорожный путь, соединяющий северные области европейской части Советского Союза с Беринговым и Охотским морями. Многие тысячи километров пути за Полярным кругом. Там, где не жила и одна тысячная населения СССР. Можно предположить, что так выглядел замысел в его окончательном завершении.
Первый шаг был скромный – 400–500 километров дороги от Воркуты через Салехард на мыс Каменный, что на побережье Обской губы. Там Секретарь ЦК КПСС и Председатель Совета министров СССР Иосиф Сталин предложил построить порт, в котором для защиты страны с севера разместить военно-морской флот. Там же должны были переваливаться грузы с железной дороги на морские суда и уходить по Северному морскому пути.
У большой карты с указкой в руках Сталин сам доложил все на Политбюро. Идея для большинства была неожиданной, возразить никто не посмел, но и сторонников не нашлось. Сталин обратился к начальнику «Главсевморпути» и министру морского флота СССР Афанасьеву, мнение которого ценил.
Афанасьев, человек принципиальный и смелый, начал с простого соображения, что военные корабли будут десять месяцев в году стоять вмерзшими в лед. Кроме того, Обская губа – министр там бывал – мелководна и не подходит для крупнотоннажного судоходства. Афанасьев давно знал Сталина и видел, что вождю не нравятся его соображения, но как специалист считал себя обязанным их высказать. Он закончил тем, что без исследования территорий и потенциальных грузопотоков (в них он тоже сомневался!) такое решение принимать нельзя и что на изучение вопроса нужно не меньше года. Его слова довели Сталина до такой злости, какой Афанасьев никогда у него не видел. Сталин прервал совещание, потребовал создать комиссию Политбюро и за три дня – а не за год! – решить этот вопрос.
За три дня вопрос не решили. Начальник «Главсевморпути» и министр морского флота СССР Александр Александрович Афанасьев оказался английским шпионом. Бывшего капитана дальнего плавания, бывшего начальника Дальневосточного морского пароходства, всю войну руководившего поставками по ленд-лизу из США через Дальний Восток – это половина всей помощи союзников! – имевшего три ордена Ленина, допрашивал лично Абакумов. Допрашивал с «пристрастием», то есть бил, и уже через месяц после того совещания Афанасьев получил двадцать лет исправительно-трудовых лагерей по статье 58–1 «а» УК РСФСР.
Решение о строительстве принималось, когда Афанасьев в камере ждал своего приговора. На одном из ночных совещаний узкого состава Политбюро, где присутствовали Ворошилов, Жданов, Каганович и Берия, Сталин заслушал доклад начальника Северной экспедиции Татаринцева и, не спрашивая ничьего мнения, вынес решение: «Будем строить дорогу!»
Через несколько дней, 22 апреля 1947 года, Совет министров СССР принял постановление, в котором обязал МВД немедленно приступить к строительству морского порта, судоремонтного завода и жилого поселка на мысе Каменный, а также начать строительство железной дороги от Печорской магистрали к порту.
Мыс Каменный в это время был укрыт снегами и закован морозами. Никаких дорог туда не было, а навигация начиналась через три месяца – в середине лета. Но работа закипела.
За 1947–1948 годы в районе будущего порта были построены три больших лагеря. Заключенные соорудили жилье и складские помещения, а для стоянки кораблей пятикилометровый ряжевый[23] пирс из лиственницы. Тянули и железнодорожную трассу. В начале 1949‐го «выяснилось» то, о чем говорил Афанасьев, – акватория Обской губы слишком мелководна для больших судов, а характер грунтов в районе уже построенного пирса не позволяет углубить гавань. Возможно, строителям это было понятно и сразу, просто боялись доложить. От строительства порта на мысе Каменный и железной дороги к нему отказались.
Но Сталин не любил быть неправым.
Новым местом для морского порта была назначена заполярная Игарка, и заполярная железная дорога увеличилась на тысячу километров. Теперь она должна была соединить северные отроги Полярного Урала с низовьями Енисея.
Итак, глубоководный морской порт, судоремонтный завод, выход железной дороги на стык морских и речных коммуникаций. В Игарке создавался большой транспортный узел. Зачем – неизвестно! Постановление Совета министров СССР от 29 января 1949 года только ставит задачи и никак не обосновывает грандиозный проект. Ни экономически, ни политически.
В тех краях на тысячи километров вокруг не было ничего, кроме Норильского горно-металлургического комбината. Возить по этой дороге было нечего.
Согласно Постановлению, в IV квартале 1952 года по железной дороге «Салехард – Игарка» должно было быть открыто рабочее движение, а в 1955 году начаться ее полноценная эксплуатация. При Северном управлении лагерей формировались два строительства – Обское № 501, оно строило дорогу от Воркуты на восток к Енисею, и Енисейское № 503, двигавшееся на запад, навстречу Обскому.
9
«Полярный» ходко шел вниз, в Игарку. Было четыре утра, солнце уже высоко поднялось над правым берегом, Енисей почти очистился, лишь изредка возникали в волнах небольшие льдышки, как называл их главный механик, притонувшие уже, иные, правда, размером с полбуксира. Плыли и живые деревья с корнями и кроной, вывернутые половодьем где-то на таежной речке.
За штурвалом стоял капитан Белов, в новой рабочей тужурке, выбритый, в рубке приятно пахло одеколоном «Шипр». Рядом на высоком стуле в самовязаном сером свитере сидел старый механик Иван Семеныч Грач.
– Все, чисто! Считай, прошел батюшка-Анисей, – бухтел старик сиплым трескучим голосом с видимым удовольствием. – Пронесло на этот раз, Сан Саныч! Винт целый, руль целый! Считай, весну пережили… Вон еще льдышка! Эта нам не страшная, мимо…
Грач по привычке всеми пальцами прихватывал то правый, то левый ус, закручивал их концы вверх, сам глядел в сторону недалекого берега. Двигатель работал вполсилы, а летели со скоростью курьерского.
Белов подкручивал штурвал и, тоже довольный, поглядывал на берега, на неразогревшееся еще, прохладное утреннее небо. Он прямо счастлив был, что вырвались. В Ермаково пришел огромный караван – двадцать с лишним барж, и «Полярный» три дня крутился с маневрами в ермаковской протоке. Эту баржу – туда, эту – сюда, нет, давай дальше, давай, давай… С приездом начальства из Игарки командиров стало слишком много.
– Везут и везут, разгружать уже некуда, – капитан произнес вслух конец своей мысли. – Сгноят половину! Бардак получается, Иван Семенович.
– Ну! – Грач свернул козью ножку, зажег спичку и скосил глаза к переносице, целясь подкурить. – А где у нас не бардак, Сан Саныч? Зэки что за работники?! Игарку вон возьми…