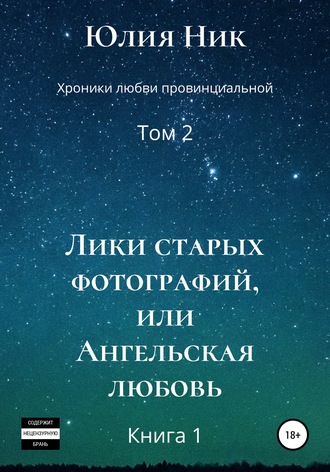 полная версия
полная версияХроники любви провинциальной. Том 2. Лики старых фотографий, или Ангельская любовь
Он снова зашел в дом выпить квасу и чуть не столкнулся с Настей. Она, мурлыкая себе что-то под нос, пятилась на него спиной и размашисто развозила мокрой тряпкой воду по полу. Его огромные штаны, которые ей и ходить-то мешали, а что уж о мытье пола говорить, она скинула. Футболку, широкую и длинную она подоткнула краем под резинку трусиков и в таком виде и хозяйничала. Ларик застыл, увидев вдруг перед собой не просто соседку Настюшку, а умелую молодую женщину сноровисто, как это умеют только женщины, моющую пол, и быстро переступающую босыми, почти прямыми, ногами по мокрым доскам назад. И ноги эти были стройными и сильными.
– Черт, а она взрослая почти, и нифига не ребенок, – и чего бабуля на него накинулась за неуважение к его гостье? И никакая она ему не гостья, а просто так… Но ноги у неё стройные, и Степка это вчера сразу разглядел, –а он, Ларик, только сейчас. – И что? Сидеть с ней теперь, что-ли? И бёдра у неё женские. Узенькие стройные, но точно женские. Красивые. Господи, когда же Алька приедет, наконец?! – у Ларика всё тело сжало в пружину при воспоминании об Альке, об её закинутой назад голове, с песчинками в волосах. В такие минуты, там на берегу, он чувствовал себя властелином вселенной, а не только любимой им юной женщины.
Так Ларик и не попил квасу, с позором изгнанный из сеней своими собственными греховными мыслями и стройными ногами и бедрами ничего не заметившей Настюши.
– А вы бы на речку-то сходили, охолонулись в воде, жарко ведь? – обмахиваясь платком посоветовала бабушка Пелагея.
– Да нет, я не пойду, – сразу отказалась Настя, – я купальник не взяла. Если можно, я в бане просто окачусь водой.

Бабули Марфа и Пелагея, дед Алипий и Ларик
– Можно, конечно, только баню надо затоплять, да помыться как след, сразу прохладней станет, кожа-то чистая лучше дышит. Давай, Ларивоша, затопляй, суббота сёдня в аккурат, – утвердительно попросила бабушка Пелагея.
Деловой деспотизм бабуль Ларик переносил стойко, только дурачился за их спинами, поджимая саркастически, и упрямо по-старушечьи, уголок губ, когда бабули не видели Это было смешно, и он нарочно смешил этим Настю, когда видел, что она весело наблюдает за ними за всеми.
Печь топилась до самого вечера, нагоняя сумасшедший жар в бане. Часов в семь, после работы, перед чаем и «Вечерней», как объяснили бабушки, все с превеликим блаженством помылись в горячей бане, смывая пот и соль, выступившую от работы и изнуряющего жара. Но после бани, выплавляющей из распаренной кожи текущие по телу струйки пота, тридцатиградусная жара в тени и вправду показалась Насте прохладой. Настюша мылась последней, бабушка Марфа научила её, как плескать воду на каменку и не ошпариться выбивающейся струёй пара. Потом Настя развесила свое постиранное бельишко в листве сирени за малухой на просушку.
Этим вечером Ларик в клуб не пошел. Старушки каждый вечер, по неизвестно когда заведенному порядку, вставали на молитву два раза. На «Вечернюю» и на «Повечерие». Настя уже поняла, «когда», и совсем не понимала, что и зачем. Видимо заметив в её глазах недоумение, бабушка Пелагея мягко и терпеливо объяснила ей, что с тех пор, как закрылся храм их, они взяли на себя труд творить молитву, как раньше в храме бывало. Настя не запомнила ни одного святого из тех, что ей не торопясь называла старушка, осеняя себя крестом при упоминании некоторых. Знакомыми кое-как были только два имени: Иисус и Богородица .
– Раньше-то батюшка наш Алипий, родной брат мой, службу в храме служил. Под защитой мы жили. А вот уж сколь лет, как сИроты живём. Только Алипий его восстановил после войны, – и опять отобрали. Из-за этого он так мало и пожил, не перенёс второго раза. Только и жил, что надеждой на Ларика нашего.
– А я-то причём? – видно было, что не в первый раз затевается этот разговор и что он был Ларику крайне неприятен.
– Ладно, спать давайте ложиться, – не собираясь пререкаться с внуком, миролюбиво сказала Пелагея. – Ларик, ты там веник из полыни-то повесь в малухе, да лавровый лист по углам кинь, всё комары не так будут зудеть. Дома-то мы давно уж повесили, и запах хороший, и комар не летит. А сегодня у нас и вовсе праздник Настя устроила, свежими досками-то как приятно пахнет. И так прохладно от свежей воды стало.
– Руки, небось, ободрала голиком? – участливо спросила бабушка Марфа, подливая ей чай.
– Да нет. Не ободрала. Да и пол у вас чистый, не «заношенный». Так, немного пошоркала. Моя бабушка, когда-то так же мыла. Я у неё один раз маленькой была в гостях на каникулах. А потом она умерла, и тот дом кто-то из её близких родственников, наверное, забрал себе. Помню, что пол был желтым тогда после мытья. И у вас он сначала тоже желтым был, теперь вот белый. Высох.
– Спасибо, Настенька. Храни тебя Господь.
Предпоследнюю ночь Настя «растягивала», как только могла, утомленная работой, баней и занятиями английским языком она задремала, вдыхая запах воздуха и чистого пола, лёжа на этих чудесных полатях, вспоминая своё сегодняшнее знакомство с чудесным душистым домом, которое ей устроила бабушка Марфа.
В доме было пять комнат, кроме кухни. В одной спали бабушки. Там всё было идеально чисто и «кИпенно белО», как сказала бабушка Пелагея: «Это уж мы сами себе праздник делаем. Взглянешь – и душа поёт».
У них даже в коровнике на окошке висели беленькие в цветочек ситцевые занавесочки.
Во второй довольно большой комнате, напротив кухни и комнаты бабушек никто не жил. Там стоял огромный обеденный стол посередине. Вокруг него десятка полтора старых стульев с высокими спинками и с шишечками по углам спинок. В проёмах между окон стояли высокие узенькие старинные тумбочки-треножки с цветами в горшках, стоявших на накрахмаленных салфетках с пышными волнистыми краями. В углу занимал всё место огромный старый фикус с большими лаковыми листьями, прочно устроившийся в большой деревянной кадушке на большом старом табурете. В простенках висели старинные фотографии в старых тёмных широких и простых рамках. У холодной стены дома стоял огромный буфет, тоже тёмный и старый, но крепкий и тяжелый с многочисленными дверцами, стеклянными и деревянными. И всё в нём блестело, как будто бы всё вчера перемыли. В простенке напротив двери стояло огромное, тусклое от времени зеркало. Вдоль остальных стен стояли высокие узкие жесткие диванчики. Всё здесь было прочно и капитально сработано, служило сто лет, и ещё было готово служить столько же
– Тут человек по двадцать сиживало когда-то. Разъехались все. Слава Богу, живы все, работают, детей уж вырастили. Ларивоша у нас последненький. Вся наша надёжа на него. Как уж Бог даст,– бабушка Марфа перекрестилась на висящий в красном углу комнаты образок.
– А в чём надежда-то? – Настюша, поставив на пол ведро, полное свежей холодной воды, оглядывалась и искренне не понимала, о какой надежде на Ларика говорят бабули.
– Как в чём, девонька?! А храм-от наш? Только ему это будет поднять. Так мой Алипий Илларионыч сказал. А это уж непременно так будет. Что уж он сказал, то непременно и происходит. Всегда так было. И это будет. Когда вот только? Молодой он, Ларивоша наш, глупенький ещё. Не внемлет пока. Ну, ничего. Призовёт в храм и его Господь, как и всех призывает, кому положено. Всех. Рано или поздно, а в храм призовёт. Женится, наверное, так и призовёт сразу. Это со всеми в роду нашем так было.
В третьей небольшой комнате пахло чем-то очень знакомым, душистым.
– Это чем так приятно пахнет? – спросила Настя.
– Это-то? – Марфа округло обвела рукой около головы, – это воском пахнет и ладаном. Здесь мой Алипий Илларионович занимался, людей принимал, когда надо было. Видишь – вход-от отдельный из прихожей сразу, чтобы посторонние в дом не входили. Там-то ещё две комнаты, – старушка махнула рукой вдоль коридора, – закрыты сейчас, раньше мы и там жили, когда Коля и Тимоша с нами-то были. На дрова много денег уходит. И там чисто, пыль только смахнуть, почти не бываем, да масла в лампадку подлить, – бабушка показала на лампадку, горевшую крошечным, почти не видимым днём огоньком. – А как же? Пост нынче идёт. Алипий-то он с нами. Иной раз бывает, что и шаги его слышу. Ждёт он Ларивошу. Ждёт. Дождется и тогда, уж, совсем уйдёт. Он и умер-то, когда Ларивоша в армию ушел. Тосковал сильно. Мог бы и жить ещё, ему всего восемьдесят пять было. Отец его до девяноста семи дожил, так в алтаре и помер, когда второй-от раз начали церкви рушить. Прости их, Господи, не ведают, что творят, – старушка, мелко крестясь, пошла из комнаты. – Ты тут сильно-то не натруждайся. Смахнешь пыль и ладно. Сойдёт,… уж и не знаем, как тебя благодарить.
Настя сочувственно посмотрела вслед старушке. Тут так пахло патриархальной стариной из всех углов. И разговоры тихие, и запахи незнакомые, будоражащие, и шепот старушек, стоящих на полу на коленях перед образами в своей, «кипенно белой» комнатке; ватрушки, парное молоко и тонкий запах мёда, оплывшего от жары в вазочке; кринка с молоком с запотевающими боками, когда её доставали из глубокого погреба в темных сенях, – Насте казалось, что всё это она когда-то уже видела, знает, любит, слышала. И сейчас с ней происходила наяву такая счастливая детская сказка.
Тело, расправившееся на прохладных толстых простынях, млело от берёзовой воды в бане. Запах веника, запаренного в воде для ополаскивания волос, носился легким ароматом вокруг головы. Настя блаженно потянулась и согнулась калачиком, сон закрывал веки. Старушки, готовясь ко сну, уже закрылись. В сенях тихо скрипнула дверь, Настя услышала шаги босых ног по полу и приподняла голову. Ларик, стараясь не шуметь в сенях, открыл дверь и зашел в дедову комнату. Из-под двери пробилась полоска света.
– Лампу настольную зажег, – поняла Настя.
Сон у неё прошел от невольно нахлынувших детских воспоминаний. Каким же заводилой был Ларик на всех школьных концертах вместе со своей сестрой Элькой, пока не поступил в музыкальное училище.
И Ларик, и Элька легко и сразу подбирали на слух мелодию любой песни. А частенько во время репетиций школьных концертов устраивали настоящее попурри, сменяя один другого за пианино на сцене школьного актового зала. Настя всегда восхищалась ими, наблюдая из-за кулис за шумными, веселыми выходками брата и сестры
Они были своего рода тогдашним брэндом школы. На всех смотрах художественной самодеятельности они и пели, и играли, и всегда брали призовые места. И Элька, и Ларик учились в музыкальной школе. И, конечно, никто не удивился, когда после восьмого класса Ларик пошел в музыкальное училище. В школе тогда сразу образовалось пустое, никем незаполнимое место. А Элька ушла за два года до этого, она была старше, и после школы тоже училась в музыкальном училище.
Утром за завтраком Настя узнала, что деда Ларика, священника Алипия, как и прадеда Ларика, священника Иллариона, два раза осуждали за «религиозную пропаганду». Узнала, что они сидели в лагерях, и что отца Ларика, Николая, дедова сестра Пелагея Илларионовна успела увезти на время в гости на Украину подальше от знакомых. В доме остался «для пригляда» троюродный брат Алипия с семьёй. А когда началась война, Пелагея с Колей одними из первых попали под бомбежку, потеряли документы, и потом бабушка Пелагея записала Николая своим сыном на свою фамилию Удаловых, пока родители мальчика сидели в лагере. Кое-как, с пометкой: «Проживала на оккупированной территории», Пелагея сумела попасть с Колей «в ссылку» в забытые Богом Берлуши. Сюда же вернулся с фронта, муж Пелагеи, Тимофей Удалов, весь израненный. Своих детей они так и не завели, и жили всегда рядом с Коленькой. Поэтому вместо фамилии Арсеничев и отчества Алипиевич, мальчик Коля получил фамилию Удалов и отчество Тимофеевич. Для Удаловых Коленька и его дети были самыми, что ни на есть, «родненькими». И Алипий, и отец его Илларион к концу войны вернулись из лагерей, им разрешили церковь восстановить. Троюродный брат, от верующих родственников, как от греха, подальше уехал, завербовавшись, как знатный плотник по призыву, восстанавливать Сталинград. Там и остался. Героем труда стал. Потом и Марфа приехала домой. В Берлуши. Только детей Алипий уже не мог иметь, из-за побоев стал инвалидом. И нога, сломанная ему «вертухаями», всю жизнь у него так и болела. Менять из осторожности ничего не стали и после пятьдесят третьего года, когда вроде «разобрались» со священством, вернули им некоторые свободы и права. И не напрасно не поменяли. Вскоре началась новая, хрущевская уже «атака» на церковь. Поэтому никакой разницы между бабушками Ларик и не делал. Одна родила его отца, а другая сохранила его живым и вырастила, пока первая бабушка лес валила на лесозаготовках в Сибири.
– И вот на этого балагура и весельчака, Ларика, бабули возлагают надежды, как на будущего священника?! – Настя невесело усмехнулась своим мыслям. – Нет. Это, конечно, бред. Ну, какой из Ларика священник?
Настя, никогда раньше и не слышала о том, что дед у него – священник. Отец – строитель, обычный инженер. Мать – учитель музыки, концертмейстером ещё подрабатывала, когда не уезжала за мужем в очередную строительную командировку, оставляя ребят на бабушек, то на одну, то на другую, но Настюша их не помнила, как и они её.
Девчонки и в школе за Лариком хороводом ходили, а в музыкальном училище каждый парень всегда на вес золота был. Избалован был Ларик девчачьим вниманием.
Но Настюшка об этом никогда не думала, изредка встречаясь во дворе с повзрослевшим Лариком, очень вытянувшимся, ставшим серьёзным и вечно куда-то спешащим, и уж, конечно, не оборачивающимся на неё мелкую, когда она, обернувшись, долго провожала его восхищёнными глазами.
Никто его сердца так и не завоевал до армии. Он был свободен, как альбатрос над морем, пока не встретил там, в Керчи, Альку. Вот она ему за всех безнадежно влюблённых в него девчонок и отомстила. Он не мог дождаться очередной увольнительной, которые им иногда после походов давали. Все его мысли были заняты только ей. Парни завидовали ему, что такую красивую девчонку отхватил.
В день увольнительной он появлялся у неё с самого утра, и потом они уединялись где-нибудь на укромном берегу в какой-нибудь бухточке. Он забывал с ней и про обед, и про ужин не вспомнил бы, если бы она не приносила с собой в пакетике помидоры, вареные яйца и пару горбулок. Ему казалось, что он сыт морским воздухом, запахом её мокрых волос и кожи, золотившейся загаром под горячим солнцем юга. В холодное время они бродили по окрестностям, по дальним окраинам города и говорили, говорили, говорили… О чём говорить, ему было практически всё равно, лишь бы её голос слышать и глаза видеть. Иногда они пели, и он хохотал, восторженно ужасаясь, как можно так безбожно перевирать мелодию?! А она спокойно и кошмарно её перевирала, нисколько не смущаясь и не комплексуя, наоборот, смеша его до колик в животе. Время от времени она куда-то исчезала без предупреждения. Потом появлялась, не объясняя, куда и зачем уезжала, мучила его своей независимостью и решительной самостоятельностью. Ларик противился, требовал объяснений, прощал, вырывал у неё слова признания в любви и верности. Она раскаивалась, обещала и потом была по- особенному нежной и мягкой под его руками. Так продолжалось три года до его отъезда. На вокзале Алька плакала, прощаясь и одновременно улыбалась сквозь слёзы. Её мать тоже стояла рядом, утирала слёзы, провожая будущего зятя.
Теперь Ларик нетерпеливо ждал, когда его оформят руководителем хорового коллектива и дирижером струнно-инструментального оркестра по совместительству на работу во дворец машиностроителей. Договоренность на этот счёт у матери с директором дворца, где иногда его мать вела кружок фортепиано и детский музыкальный коллектив, когда отец приезжал сюда из своих командировок, была железная. Но для работы во дворце этого «обычного» завода в городе Че нужен был «допуск», чтобы иметь возможность проходить на заводскую территорию, а это, разумеется, было нужно.
Ларик даже заранее набросал эскиз, какие подставки для хора надо будет сразу же заказать и сделать, чтобы смотрелось всё солидно и красиво. Он и над репертуаром ночами голову ломал и почти уже составил, но разрешение на допуск всё не приходило.
Документы его уже полмесяца проверялись в каких-то инстанциях.
А они сразу договорились, что как только он оформится на работу, Алька тут же приедет и тоже устроится куда-нибудь на работу, туда, конечно, где не требуется музыкальный слух. Здесь город большой, не то что там. Там городок, можно сказать, с богатой историей, конечно, но городок. А тут-то – один из крупнейших городов- миллионников. И начнется у них настоящая жизнь, и они уже будут вместе навсегда, и днём, и ночью. А в Керч они будут ездить в отпуск каждый год.
Пока же Ларик готовился очень всерьёз заняться работой со своими будущими коллективами, и взрослым, и детским тоже, конечно. Он прочел в газете «Культура и жизнь» и в журнале «Театральная жизнь» обо всех конкурсах и юбилейных событиях планирующихся в этом году. Амбиции у Ларика были большими: «Выйти на всесоюзный уровень – это-то уж обязательно. А там видно будет. И в институт готовиться надо. Элька вон выскочила замуж и прощай-прости высокое искусство, и оперный хор, и даже оркестр оперного театра, и всё такое. Здравствуй, племя младое любимое. Два пацанчика-погодка», – так очень логично рассуждал и мечтал Ларик.
С рождением своих детей Ларик заранее решил не торопиться. Успеется. Им бы с Алькой поездить по белу свету с гастролями, на людей просмотреть, себя показать.
Глава 3. Письма деда
Сегодня ночью, когда все уснули, Ларик решил залезть в стол деда и открыть, наконец, тот пакет, который лично ему завещал дед, и который лежал в верхнем ящике стола, перевязанный крест-накрест бечевкой. Этот пакет бабушка Марфа в первый же день, как Ларик приехал к ним после дембеля, подала ему в руки. Но тогда Ларик не захотел второпях «встретиться» с дедом. А то, что он с ним «встретится», никакого сомнения у него не было. Дед был из тех людей, у которых каждое слово тяжело весило и много значило, и хотел или нет дедов собеседник, он невольно попадал под влияние его рассуждений, которые врезались в сознание, как горячий нож в масло.
С этим эффектом Ларик был знаком слишком хорошо, чтобы и сейчас, когда дед уже не здесь, легкомысленно предположить, что такой пакет ничего существенного в себе не содержит. Ларик внутренне отодвигал этот момент встречи с дедом, но и готовился к его неизбежности. Поэтому и выбрал ночное время, когда ничто и никто не помешает ему прочитать послание деда.
«Здравствуй, дорогой мой мальчик. Наверное не дождусь я тебя, совсем плохой что-то стал. Жаль. Но ты же помнишь, как к тебе во сне приходил дед Илларион? И то, что он тебе рассказывал, потом подтвердилось. Мы нашли с тобой его клад. Это ли не доказательство, посланное тебе, как избранному из нас? Не бойся, мой мальчик, что оно, это избранство, с детства присутствует в тебе. Присутствует, и даёт мне твёрдое основание в том, что я правильно выбрал наследника дела моего. Все старшие дети нашего рода от моих дядек и братьев ранены временем тем безбожным. Ранены и больны. Хотя, уверен, что все они молятся перед сном, как и в детстве, но молятся тайком даже от себя. Господь их не оставит своей милостью, но дал мне упование в тебе. Твоё личико, просветленное во время служб и сейчас стоит передо мной, как же мне жаль, что не увижу его более на этом свете. Светлый ты мальчонка был. Уверен, что светел ты и сейчас, хотя творишь ошибку. Что же ты без венца с ней сошелся? Грех это. И на ней грех, а на тебе-то больше. Ты же мужик. Но напрасно ты надеешься, что Господь такое попустит. Не попустит. Вместе вы не будете никогда. Да и к лучшему. Она на жизнь, которая тебе уготована, не годится. Совсем не годится. Ты отпусти её с миром, как уйдёт от тебя – не гневись. Ты-то не лучше.
А ты счастлив другой будешь. Всю жизнь счастлив будешь…» – Ларик обомлел, отбросил письмо деда в сторону и резко встал из-за стола: «Ну, дед! Ну, ты даёшь. Так и знал, что об этом начнешь. И по-прежнему уверен, что не случайно тогда этот сон приснился про церковный клад. А где это всё сейчас, интересно? Выкопал, или так и оставил? И, главное про Альку! Вот, ведь, ты штырь! И так уверенно… Ну, нет, дед! Алька – это моё. И ничего ты не знаешь. Так, на понт меня берешь…» – Ларик даже не сразу понял, что ведёт диалог с давно ушедшим дедом, как с живым, и снова присел перед столом и взял в руки листок.
Дед, как чувствовал, что с ним сейчас происходит: «Клад я для тебя оставил на том же месте. Тебе про него сказали, тебе и доставать. Но доставать-то куда? Нет алтаря. Стало быть, на тебя это возложено. Тяжела эта ноша. Согласен. Но и благодатна она. Всё она тебе даст. По белу свету хочешь поездить? Зачем? В себя для начала загляни до самого дна. Многое увидишь. Везде всё едино. Что наверху, то и внизу. Что внутри, то и снаружи. Только от тебя зависит, как твоя жизнь красками заиграет, и какими. Для этого никуда и ездить не надо. Ты вот точно знаешь, как одуванчик устроен? Можешь навскид нарисовать? То-то. Вроде и прост, а как совершенен! Это великое творение Его. Ты думаешь, музыка только в концертных залах звучит? Да нет. Искони она в церкви звучала. В каком это зале она так-то звучит, как у нас тогда звучала, или в другом соборе каком? Нигде больше. Да и дар тебе музыкальный не из рода, а в род дан. Всегда бабушки в нашем роду регентами хоров были. Ты церковь-то восстанавливать с хора начни. Поправить окна и двери недолго. Купол почти цел. Мы там с мужиками перекрытия-то толем закрыли от дождей и снегов кое-как. До тебя дотянут. А тут уж ты сам, сынок, поднапрись. В епархию запрос сделай на восстановление служб в храме. Мужиков, главное, привлеки к этому делу, без них ты ничего не сделаешь. Одним кулаком с ними становись, пробьётесь, хоть и тяжело будет. В хор пригласи братьев из семей Строгиных, ещё Мятлевых, Бредихиных, Масловых, Жилиных – эти всегда пели. У них голоса великие бывали в роду. Да что я это тебе советую, ты и сам найдёшь лучше меня. В епархии тебя быстро рукоположат, сейчас им там не до переборов, а ты коренной. Это там, в управлении, знают, я записку на днях отослал.
Только жену выбирай по совету Марфы моей и Пелагеи нашей. Они не ошибутся, изнутри это дело знают, и все тяготы его для матушки понимают, в этом вопросе ошибиться нельзя никак. Это доля с тяжелым крестом, но и благодатная для женщины в муже и детях. Дорогого это стоит нынче-то. У тебя наследник будет тебе подстать, даст его Господь с Элиной стороны, но не надолго. Потом другой появится. Надёжный. Элька и хор тебе поможет наладить. Как рукоположат, храм вымели, освятили с Божьей помощью, – и сразу крестить начинай и отпевать. Это первое, что людям надобится. Службу ты раньше наизусть знал, вспомнишь быстро. Книги все оставляю тебе с памятками. Закладки не теряй, пока сам не научишься нужное быстро искать. А проповеди на первые года три я тебе наготовил, потом своё добавишь, как в полный ум войдёшь, настоятелем настоящим станешь. Оно само придёт к тебе, только перо в руку возьмёшь – оно и придёт. Я с тобой по первости буду. За спиной встану. Почувствуешь. Ты в надежде будь, всё хорошо будет, даже и лучше, чем хорошо. Господь с тобой, мальчик мой дорогой. Марфа не уйдёт, пока третьего ребёнка на ноги не поставишь. Тогда уж ко мне уйдёт. Потом ещё дети будут, там Палаша поможет, но не долго. А там и сами справитесь. Вот, вроде всё сказал. Что не ясно – спрашивай, найду, как ответить, не одни мы с тобой, с нами Господь наш. И Аминь. Целую тебя, мальчик мой дорогой. Живи долго. Алипий, дед твой любящий тебя.
Да, совсем забыл… Ты не тужи, коли не по-твоему с работой твоей будет. И с девицей твоей тоже. Не тужи, принимай всё, как есть. Вспомнишь меня потом. И на меня не серчай, я тут ни при чём. В любимчиках ты у Него ходишь, вот и помогает Он тебе. Да, патлы свои можешь не состригать, украшают они священника».
Ларик жестко усмехнулся. Прошелся рукой по оставшимся листам и тетрадкам, некоторые вытаскивал на свет. Проповеди были написаны в пронумерованных тетрадках, также аккуратно пронумерованных постранично. В конце каждой стояла печать архимандрита. Иначе проповедь сразу же и запрещалась во времена Хрущёва. Некоторые, самые старые из них, Ларик вспомнил, детская память услужливо вытаскивала их на поверхность. Недаром он оттягивал этот момент, чувствовал, что внесёт он в его душу гнев и разлад: «Да кто ты такой, дед Алипий?! Ну, священник потомственный. Все вы раньше потомственными были. Тоже мне предсказатель!» – Ларик мерял шагами комнату и остановившись перед образом в углу, слабо освещаемом лампадкой, зло посмотрел на него. Пламя лампадки, до этого малюсенькое и едва заметное при свете настольной лампы, вдруг взметнулось и весело затрещало, как бы зайдясь в смехе. Ларик невольно по детской привычке перекрестился, в ответ пламя ещё раз высоко взметнулось, сильно осветив темный лик в потемневшем до черноты серебряном окладе, и Ларику показалось, что лик мягко и лукаво-ободряюще улыбнулся.

