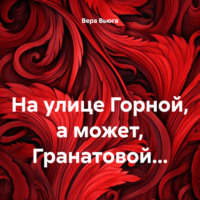Полная версия
Эффект матрёшки
– Куда двинемся, – закуривая, спросил Натан.
– Может к тебе, – слету предложила Ада. От нетерпения и страха она гнала волну за двоих.
«Ты» из уст едва знакомой дамы звучало для него, как «да». Натан удивился, но явно обрадовался такому повороту, завел мотор и, лихо закрутив руль, развернулся с визгом. Минут через пять они припарковались в переулке возле особняка затянутого по фасаду зеленой сеткой, сквозь которую проглядывала классическая строгость и аристократическая сдержанность позапрошлого века, допускавшая чугунный ажур лишь в кованых консолях, удерживающих массивный козырек над дверью когда-то парадного подъезда.
Ада выпорхнула из машины. Отвлеченный звонком Натан, остался. Дожидаясь его, она неторопливо прошлась вдоль дома до следующего, сиамским близнецом прилипшего к тому, что рядился в маскировочную сеть.
Весь переулок состоял из низеньких в два-четыре этажа старинных особнячков, совершенно загаженных, облупленных и униженных вселенским хамом вроде того, что прогуливался сейчас по переулку со своими меньшими братьями без совка и пакета. Завяленных собачьих «лепех» и «колбасок» на пути ей попалось немало, а под арку, перекрытую кружевной решеткой, она и вовсе зря заглянула. Смрадный дух от переполненных отходами баков погнал ее прочь, не дав насладиться изяществом ковки.
Артемида с прискорбием заметила, что исторический центр – место совершенно неприспособленное не только для выгула собак, но и для проживания хозяев. С виду вроде благополучно оштукатурено, но стоит сделать лишь несколько шагов от нарядной улицы и через прямую кишку подворотни, забитую холмами отбросов, ты неминуемо попадешь в каменное брюхо двора, с торчащим чахлым аппендиксом ствола посередке. Может береза, а может тополь, изъеденный всеми древесными хворями. Здесь застывшая в оконном проеме старуха, целый день глядит из-за тусклого стекла в щербатую стену напротив, терпеливо ожидая смерти. Но вместо неё приходит почтальон, вручает пенсию. А значит нужно жить.
В парадном вестибюле, когда-то по-буржуйски роскошном, хоть и побитом временем и превратившимся нынче в зассанный подъезд, все было основательным и безупречным: от камня лестницы и подоконников, до дуба перил и дверей. В мраморных ступенях по-прежнему сидели медные кольца, сработанные на века, но ставшие ненужными уже через каких-то полтора столетия. Сперли братцы-голодранцы с мраморных ступеней ковры! Растащили шторы на революционные подштанники! Подпоясались чужим муаровым шелком, набросали в парадный камин самокруток, да жженой соломы, и пошли по углам гадить!
Так, разжалованный из парадного в проходной, и стоял он будто удивленный, с раззявленной каминной пастью полной окурков и жестянок от нынешних швырял-проходимцев.
– У вас прилично… – заметила Ада, минуя камин и взбираясь по изношенным ступеням, все еще хранящим на зашарканных уступах вензельные метки прежних хозяев.
Марш лестницы освещало огромное окно. На мраморном подоконнике сидел мордатый одноглазый кот. Заметив парочку, кот спрыгнул на пол, задрал облезлый ершик хвоста, шерстяная тельняшка на спине его встала дыбом, он изогнулся дугой, сказал «шшш» и пометил стену. Поднимаясь, Ада несколько раз оглянулась – кот смотрел вслед, не мигая. Единственный глаз его горел зеленым огнем. Хвост метался из стороны в сторону, казалось, кот ее ненавидит, как революционный матрос анархистов.
Старинная дубовая дверь внушала уважение. Натан вдавил кнопку. Сухой колючий звук похожий на металлический треск старого велосипедного звонка рассыпался по ту сторону и где-то в глубине Аде послышался протяжный и жалобный скрип. Когда дверь открылась, на пороге возникла маленькая старушонка в пурпурном шелковом кимоно, чрезвычайно прямая, с гордо вскинутой головой, наподобие одуванчика покрытой седым пухом. Она рассматривала Аду через лорнетку, словно, пытаясь найти изъян и тут же забраковать. Аде сделалось не по себе от пристального взгляда старухи.
– Артемида! – громко и четко обозначил Натан свою спутницу. – Познакомься, – обратился он к Аде, мнущейся на пороге. – Это моя бабушка Розалия Эммануиловна.
– Очень приятное имя, – почему-то соврала Ада. – Вернее неприятное, то есть красивое…
Она совсем запуталась и растерялась, а старушонка продолжала разглядывать ее в свою бутафорскую штуковину. Затем, ничего не говоря, развернулась и, волоча за собой шлейф из валерьянки, поплыла по коридору, мелко перебирая негнущимися карандашными ножками.
«Ведьма», – решила Ада.
– Забавная бабуся у тебя. Может мы не вовремя? – добавила она вслух, улыбаясь, пропустившему ее вперед Натану.
– Все в порядке, просто бабуля принимает успокоительное, и сама понимаешь, тормозит чуть.
Демонстративно не замечая пыльного войлока музейных тапок, рядком выставленных в прихожей для гостей, Ада процокала по наборному паркету позапрошлого века вслед за переобутым внуком неприветливой бабули.
В просторной «зале», не уступающей площадью однушке в каком-нибудь заспанном районе, стояла мебель из дворца. На стенах в золоченых багетах висели картины неописуемой красоты, достойные стен музейных сокровищниц. Конечно, Артемида не была экспертом, но рамы впечатляли.
Присев на край антикварного дивана, Ада чувствовала себя неуютно, нервничала. В таком состоянии с ней нередко случались приступы парафазии. Диалога снова не получалось. Опасаясь произнести нечто дикое, она телячьими глазами смотрела на Натана и улыбалась, как провинциальная дурочка.
Натан не выдержал. Вышел. Вернулся он, держа в руках запотевшие пакетики.
– Хочешь мороженого?
Ада кивнула.
– Ты какое будешь? Эскимо или сахарную трубочку?
– Трахарную срубочку! – прорвало Артемиду.
Хрустальные подвески бра мелодично позвякивали то ли от пушечного хохота Hатана, то ли от того, что он задел их головой плюхаясь на диван рядом с перепуганной гостьей. Ада тоже рассмеялась, и ей стало легче.
– … по мироощущению я поэт, а поэзия сфера тонкая… – увлеченно досасывая эскимо, бесстрастным голосом разъяснял ситуацию хозяин. – Натура у меня чувствительная, потому в энергетическом пространстве способна отыскать эгрегор вдохновения… и установить контакт.
«Кто ж тебе, поэзный, мешает, устанавливай. Затем и пришла», – промелькнуло в голове Артемиды.
Свою трубочку она давно слизала и, освоившись, уже игриво поглядывала на сидящего рядом мужчину. Но Натан, в ответ на ее «амуры» внезапно сделался серьезным, будто на приеме у венеролога. И вопреки ожиданиям вместо приставаний закатил представление.
На фоне гаснущего в оконном проеме дня, глубоко засунув в карманы брюк руки, минуту он стоял, молча, будто собираясь с мыслями. С лица его исчезла радость. Меланхолическим туманом заволокло взгляд и он начал с того, что закрывает глаза (и закрыл таки), пытаясь проникнуть туда, где его не ждут. Многообещающий запев радовал Артемиду недолго. Дальше невероятно быстро ее знакомец съехал с темы и понес что-то про благодать, что снисходит на него, обнимая за плечи нежными ветрами печали и сна…
Это были стихи.
Изображая благодарную слушательницу, Ада сидела смирно, хотя внезапно затянувшаяся самодеятельность ее порядком раздражала. В паху саднило. Новые итальянские трусы, приобретённые для торжественного случая, безжалостно впивались в интимные места. Но она терпела. Получается зря! Она ожидала чего угодно, только не верлибра! «Похоже, моя задница его совсем не волнует. Хороша, идиотка, адюльтеру захотела. Нет, права был философ Кант – нормальный мужик, один в театр не пойдёт, только извращенец».
Она дёрнула плечом, будто сбрасывая с него воображаемую руку философа, по-дружески советовавшего ей валить отсюда пока не поздно!
– Адочка, тебя не волнует поэзия? – очнулся Натан.
– Последний раз меня волновал хирург больницы, куда я попала с растяжением. Поглаживая мою ляжку, он предложил сделать «лангет», – тон её становился хамским. С тем хирургом тоже ничего не вышло. Правда, слово «лангет» она запомнила навсегда.
– Лангет? Ты уверена? Ладно, не сердись. Видишь ли… – присаживаясь рядом, перешел к делу Натан, – … у меня бизнес стоит…
«Хорошо хоть что-то стоит», – желчно ухмыльнулась Артемида.
– Адочка, слышала ли ты про эскорт для состоятельных господ?
«Господин» в его устах отдавал де Садом.
«Все-таки Кант был прав – извращенец! Сейчас прикуёт наручниками к батарее. Вон они у него какие чугунные, слона выдержат! И стены толстые в четыре кирпича. Ори не ори – не услышат. Ведьма глухая, спит, небось, после дозы».
От страха у Ады закололо подмышками.
– Так я тот «господин» и есть, – продолжил Натан. – Клонированные красотки мне не интересны, я в женщине индивидуальность ценю и породу…
«Породу!»
Картины одна живописней другой рисовало её измученное Фройдом воображение: «Я лошадь. Наденет сбрую, будет кормить овсом, стегать нагайкой, а потом… страшно подумать! Будет ездить верхом! А мне прикажет ржать?!»
Какое там «ржать»! Аде было не до смеха.
– А может у них аренда высокая? – съехидничала она, подозревая, что секса не будет ни в каком виде!
– Дело не в деньгах. Главное взаимопонимание. Ведь так? Мы же понравились друг другу. А это значит, что общение наше будет обоюдоприятным. Сам-то я равнодушен к сексу, – Натан произнес это так, словно речь шла о футболе. – Но у меня много солидных друзей, – заметив разочарование на лице гостьи, тут же поспешил добавить он. – Появиться в обществе с красивой неглупой женщиной всегда праздник. Или я не прав?
Прав! Тысячу раз прав Конфуций: «У женщины мозгов как у курицы. У умной женщины – как у двух».
Глава третья
На юбилей маститого литератора Ада пошла из любопытства, книг его не читала, но фамилия была на слуху. Деду исполнялось семьдесят. Натан обещал, что будет кой-какой литературный бомонд и даже телевидение. Пару физиономий она действительно узнала. Правда, к ее разочарованию всего одна дама оказалась в откровенно вечернем платье. Беспрерывно обмахивая газетой посвященной юбиляру пломбирные телеса, некстати упакованные в шелка перванш, она смущенно-растерянно озиралась на остальную публику, невыразительной массой растекшуюся по залу ожидания банкета. Вид у дамы был такой, словно ее застукали одетой в парилке.
«Да-с… подведение итогов… и неутешительных», – констатировала Артемида, в тусклой тусовке пытаясь разглядеть Натана, притащившего её сюда и бросившего, но пообещавшего, что будет интересно.
Между тем приглашенных становилось все больше. Голоса вокруг крепчали. А совсем рядом и вовсе закипал спор. Ада поневоле прислушалась. Дискурс на «вечные темы» вызывал у нее рефлекторную изжогу. Ей было абсолютно по барабану, является ли убежденность в чем-либо предпосылкой к тому, что индивид станет диктатором, убийцей, в лучшем случае домашним тираном. О том кто милей – демократы или большевики, она и вовсе не задумывалась, как впрочем, и о слезинках замученных детей. И в том, что незачем сочинять и существовать, пока не решён главный вопрос, и не найдено «вещество существования», ей тоже не было охоты разбираться. Однако, разгоряченные литераторы захлебывались, наперебой демонстрируя условные рефлексы не хуже павловской псины. «На самом деле им и мяса не надо, слюнями сыты, – не переставая сканировать зал на предмет интересных мужичков, резюмировала Артемида. – Порассуждать о морали это мы могём. Русский интеллигент тем и отличается от рядового обывателя, что по каждой теме свое мнение имеет, будь то клонирование, зомбирование или зондирование. А государственность и право – любимая еще со времён Марфы Борецкой. Где же Натан?»
В поисках исчезнувшего спутника она пересекла холл и, немного поплутав, оказалась в зале поменьше, где возле стола, украшенного изысканной гастрономией и бутылями с зажигательной смесью местного разлива, уже суетилась пара нетрезвых русписов. Её появление их ничуть не смутило.
«Голодаем, мадам…» – непринужденно оправдался тот, что поэлегантней, пряча во внутренний карман блейзера пол литра непочатой «Адмиральской». Вселенская скука колыхались в его прозрачных, как водка глазах, устремленных на случайную свидетельницу кражи задушевного напитка.
«Талант! Не пропить его, не сменять на фантики», – ехидно заметила Артемида, все крепче утверждаясь во мнении, что чем писатель талантливей, тем он свободней от предрассудков. «И все же… не могу понять, как можно надеть клубный пиджак с засаленными джинсовыми порточками и тряпичными мокасинами на зернистой платформе! Все-таки разумно, что в эфир их по пояс запускают… и без водки. Хотя без нее им, небось, тяжко до дна души доныривать. А уж как с водкой нырять начнут – вызывай санитаров!»
Не замечая насмешливых ее глаз, «таланты» продолжали клевать со стола аки непуганые птицы: маслинки, сырок, рыбку. Они закусывали.
«Может и не писатели… – поморщилась Артемида. – Приличные люди сначала пьют, а после заедают, если есть чем. А эти наоборот».
Выяснить не удалось. Шум аплодисментов слишком явственно позвал ее к гостям, где возле кадки с пальмой она, наконец, отыскала Натана.
– Ты бы мне рассказал кто здесь who? – раздвигая пыльные листья искусственного дерева, поинтересовалась Артемида. – Это кто спит?
В полукресле, неплотно сомкнув веки, отдыхал мужчина заурядной наружности.
– Это хокку-мастер Трёшкин, – Натан понизил голос до шепота. – Талантлив, но невостребован, оттого горюет и пьет. А вот и оппонент его пожаловал. Ладно, ты приобщайся к прекрасному, а я сейчас вернусь.
– Как? Опять?! – зашлась возмущенным шепотом Артемида. – Ты меня бросаешь?
– Я быстро! А ты пока… дай вон, интервью что ли, – заметив человека с микрофоном, махнул в его сторону Натан.
– Какое интервью! Я ж в литературе, как таджик в филармонии… – не оценив шутки, запаниковала Артемида, в след убегающему Натану.
Тем временем оппонент шагнул на середину паркета, достал из нагрудного кармана сервировочную салфетку с бахромой, не спеша развернул и смачно, с обеих ноздрей сморкнулся, издав устрашающий звук похожий на рёв одинокого слона. Затем, не обращая внимания на окружающих, бережно свернул стилизованный платочек и изящным движением двух пальцев отправил его обратно в карман.
– Я начинаю цикл под общим названием поwhoезия, заявил он и, сделав отрешённое лицо, неожиданно загнусавил:
на ле-бя-жа-ю ка-нав-ку
вы-пал бе-лень-кий пу-шок
о-ты-мел бом-жи-ху клав-ку
про-меж ста-туй ко-ре-шок
и у-же у-брать со-брал-ся
с глаз не-хи-трый ре-кви-зит
на…
– Кто пустил сюда эту маргинальную харю!!! – взвизгнул из-за пальмы, внезапно проснувшийся хоккуист Трёшкин. – А в амфибрахий?!!
Всё случилось с одного дубля. Выступающий поwhoет развернулся и cо словами: «Японпис! Банзай твою медь!» двинул Трёшкина в ухо.
Увлекая за собой целлулоидное дерево, Трёшкин, молча, сполз с кресла…
Пока переполошенные дамы кудахтали над желчным хоккуистом, уводимый под руки поwhoет, так и не успевший концептуально отыметь доверчивую публику, сорвал в знак солидарности несколько сиротливых хлопков и почти полную бутылку армянского коньяку, которую сунул ему в карман поклонник и которой он обрадовался не меньше, чем бюджетник «джек-поту».
Поверженного Трёшкина отволокли на софу. И чтоб не усугублять, всех тут же пригласили к банкету. Голодная публика, не мешкая, потянулась в сторону Столичного салата.
Если не считать пострадавшего хоккуиста и мужчину, оказывающего ему первую помощь, Ада, единственная из приглашенных игнорировала еду. Полускрытая пальмой она тихо осталась дожидаться Натана там, где он ее забыл.
Огромный угрюмый мужик (даже в ночном кошмаре она не смогла бы вообразить, на которой из литературных нив пахал этот мамонт!) стоял перед софой на коленях, прижимая к лиловому, расцветшему экзотическим цветком уху несчастного хоккуиста, мокрый носовой платок.
– Кто? Кто привёл эту гадскую сволочь? Я тебя спрашиваю, кто? – дёргая за пиджак мрачного мамонта, не унимался Трёшкин.
– Успокойся, Моня. Никто его не приводил… Он сам. Ты же знаешь Бермудского… Он всегда сам… без приглашения.
– Св-оооо-лочь… – простонал хоккуист. – Почему вы не дали мне его уууу-рыть!
– Ещё не время, – с пробивающейся нежностью, увещевал другана мрачный мамонт.
– Я его задушу его же портянками, – теряя голос от злобы, шипел Трёшкин. – Эта обезьяна вообразила себя поэтом, а в слове педераст три ошибки делает!
– Это концептуально, Моня…
– А сплетни про мою жену распускать, тоже концептуально?!
– Ну… – пожал плечами мамонт.
– Сказать, что у Галы фигли-мигли с Акуловым, это концептуально?! – Трёшкинские глаза красными виноградинами выкатились из орбит, он дышал, как марафонец после забега.
– Какие фигли-мигли, Моня… Никто и не поверил. Ей лет, то сколько… – попытался успокоить Трёшкина мрачный.
– Лееет!? Не-на-ви-жуууу… – завыл Трёшкин.
– Кого?
– Ро-ди-нуууу…
– А Родину, то за что? – недоумевал мамонт.
– За всё! – и Трёшкин повернулся спиной к собеседнику.
– Ничего, ничего, Моня. Я тебя в садик твой каменный отвезу, успокоишься, хайков насочиняешь, отдохнёшь. А Галы я скажу, что со стремянки упал, ухом стенку задел… лечишься.
Поглаживая хрупкое тельце хоккуиста, мрачный задумался. Морские волны на лбу обозначились резче, и он глубокомысленно изрек: «Родина не там, где больше платят, а там, где меньше содют».
Еле сдерживаясь, чтобы не испортить трагедию смехом, Ада бесшумно выскользнула из укрытия на лестницу. Только удрать не удалось. Натан настиг ее у самого выхода и сгреб в объятья.
– Я тебя везде ищу. Пойдём со мной, познакомлю с настоящим классиком.
– Не хочу… я уже насмотрелась…
Но Натан, не слушая и не разжимая объятий, уже волок ее в какую-то неведомую сторону: мимо нелепой парочки, софы, мимо банкета…
«Кто с Трешкиным?» – только и успела вымолвить Артемида. От ответа она чуть не свернула шею, не в силах оторваться от мамонтообразного банкира-наперсточника и исполнителя собственных блатных песен по кличке «гоп со смыком», так трепетно опекавшего капризного хоккуиста.
В литературной гостиной стоял запах несвежих носков и нонконформизма.
Натан протиснулся к центру, оставив Аду рядом с субтильной девицей и юношей, нервно теребившим прозрачную бородку:
– … еще Апельсинов когда-то казался чем-то свежим, а всякие там тускневичи-немогутины и прочие мастера исповедальной прозы… Меня лично, от них просто тошнит! Я прихожу в ужас от нынешней угрюмой реальности, но больше от ее певцов… Тот же Морокин с Вампировым. Кощунствуют и глумятся. И это нынешние классики! Который год концом литературы пугают. И этим же концом (от неприличного глагола Ада, чуть не зарделась) … мозг читателю. А … (здесь ее вновь ошарашили, той же глагольной формой, но в прошедшем времени) довольно посмеиваются над всеми. Типа, мир – говно, я – Че Гевара! А классик потому и классик, что умеет, скрыв художника, раскрыть человека, как рыбье брюхо. Может быть, кишки его собственные; может быть, – нет. Классика – это теперь наши общие кишки.
Аду затошнило. Она ясно представила себе бородатого «классика» наподобие «льва николаича» в кожаном фартуке, с тесаком в мозолистой писательской длани. Перед ним подвешенная за крепкие ноги, точно свиная туша, болтается Анна. Юбки упали, закрыв верхнюю часть тела и обнажив кружевные панталоны. Хрясь! И на пол летит кровавое дерьмо…
Натан раздвинул плотно прижатые друг к другу торсы русписов и поманил Артемиду, явно скисшую от видений и удушья.
«Смелей!» – скомандовал он.
Ада скользнула в образовавшуюся щель.
Неспешно беседуя о тенденциях в литпроцессе, судя по возрасту, на диване сидели сразу два «классика». Публика помоложе внимала стоя.
Лицо одного их «классиков» того, что поживее, украшали модные прямоугольные линзы в клетчатой оправе. Аде очки показались женскими. Сунув руку за пазуху, «клетчатый» извлек сложенный пополам лист.
– Вот что мне принесли… – Он расправил бумажку. – Рецензия!
«Писатель Г, – немного шепелявя начал он, – известный представитель направления вялых интеллектуалов современной русской литературы. Его проза пронизана философией неагрессивного поwhoизма. Этакий взгляд сквозь бутылочное стекло, преломляющее свет и делающее мир кривоватым и косоватым, но безнадежно узнаваемым. Возможно, ты и сам бы написал об этом, только сегодня много пива и по ящику футбол, а завтра свидание или заседание. Все это отвлекает. Писателя Г отвлекать некому. Телевизора у него нет, а на свидания, по словам все того же писателя, ходят только «мудаки» и «ляди». Писатель Г туда не ходит, поэтому имеет время размышлять и писать о «размышленном». Вдохновляется писатель Г исключительно по дороге на работу и обратно, подслушивая разговоры сограждан в общественном транспорте и очередях, а так же читая объявления вроде: «Баня работает. Вход в мужское отделение – через женское».
Нездоровые эстетские заигрывания с читателями, детективный конвейер и фэнтезийная толкотня, отвлекают народ от корней. Тогда как писатель Г обращает читателя к живому исконному, сермяжному, как сама правда жизни. На какой стене, скажите мне, последний раз вы видели начертанным самое выразительное слово русского языка?! И не вспомните! Сплошь граффити. В то время, как во всяческих органах и на всяческих уровнях муссируется вопрос «быть или не быть». Писатель Г приходит домой, надевает тапки, закуривает, ставит на газовую плиту чайник со свистком, и пока тот свистит, пишет свои, лишенные всякого пафоса тексты, рассказы, произведения, называя простые вещи простыми словами, и доводя фирменный стиль до полного…
– И причем тут русская литература?! – возмутился второй «классик». Вопрос шаровой молнией завис над притихшей аудиторией. – Годами, набивая руку, я входили в профессию… – его неприятный скрипучий голос поднимался все выше. – Трудолюбием, учебой, страстной любовью к своему делу выковывал стиль, форму! А эти новые голиафы от литературы! Выскочки и недоучки! Ни теории, ни практики… ни ценностей, ни разума! – первый ряд вставший во фрунт, затаив дыхание внимал жаркой филиппике «классика» номер два, будто его перо сотворило, как минимум «Войну и мир». – В моем институте я тридцать писателей в год выпускаю! Приходите, учитесь! Рациональный способ. Теория плюс практика. Так нет. Они в носу поковыряют и вытащат… Сюжет! Роман!
Здесь «классик» номер два вскинул натруженный кривоватый перст и сделал вид, что ковыряет им в гипотетической ноздре. Притом гримаса его означала, что этакий «чародей слова» не смеет называться писателем!
– Позвольте не согласиться, коллега. Я уверен, рациональное к литературе имеет то же отношение, что глобус к мышеловке, – первый «классик» уже спрятал бумажку и снял очки. Его живые и хитрющие глазки бегали от взгляда собеседника, фундаментального и основательного. Вот этот «первый» точно не претендовал на гениальность, максимум «Незнайка на Луне».
– Все равно, я решительно не понимаю… Как можно поймать вдохновение на кусочек вонючего сыра? – возразил «второй» раздраженно.
– А ведь ловят, ловят! И многотиражно!
– Время нас рассудит, коллега…
– Я сказал им, что приведу хорошенькую поэтессу, – шепнул Натан Аде в ухо.
– Ты обалдел?! Я же хорея от харлея не отличу…
– Думаешь, они с тобой о литературе говорить будут… – гнусно хихикнул он, выдергивая за руку из толпы робкую, недовольную самочку.
– Жуанский, посмотри кого я тебе привёл! – шустро развалясь на диване меж двух «классиков», обратился к тому, что посвежее Натан. – Артемида-охотница!
Сакральный смысл ее имени в устах Натана утратил культурно-мифологический акцент, и Аде впервые стало неловко за греков. С десяток пар глаз, уставилось на нее. А она не знала, как выйти из дурацкого положения. «Натан-болван, – скакала в голове пинг-понговым шариком рифма. – Кастинг мне устроил, сутенёр-общественник!»
Надо было либо провалиться на месте, либо ответит!
– Он ошибся, – злость предала ей сил. – Я не охотница, я укротительница диких ослов! – Она хлестнула Натана взглядом так, что теперь уже ни у кого не было сомнений кто из присутствующих это милейшее животное.
– А Натан уверял, что поэтесса. Может, что-нибудь почитаете? – качнул головой Жуанский, одобрительно разглядывая её коленки.
Ада растерялась. Должно быть, так теряются школьники после веселых выходных. Когда не могут вспомнить ни то, что задано, ни какое сегодня число! А настырное «учило» непременно желает в твоем исполнении: «Ночь, улица, фонарь, аптека…» Но в голове лишь дискотека и блок. Блок на всю голову. И ты мямлишь что-то бессмысленное…
– Артемида сейчас работает над циклом лимериков под рабочим названием «выйти замуж куда-нибудь в Пизу…» – пришел ей на выручку Натан, ставя ироничную точку в журнале успеваемости нерадивой ученицы.
Она была благодарна ему за спасение, но не за презентацию.
Классики переглянулись. А позади Артемиды, точно весенний ветерок пронесся смех и шепот.