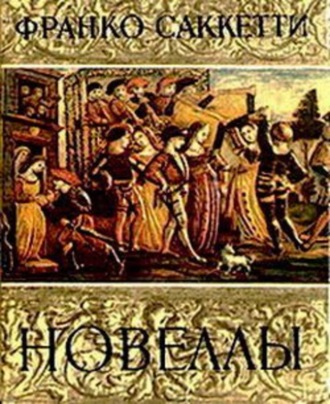 полная версия
полная версияНовеллы
Эта жестокость была уже проделана над тридцатью несчастными, когда очередь дошла до человека, который съел свой хлеб, стоя на коленях и с мольбой сложив руки, а когда кончил есть, сказал: «О синьор, это слишком маленький кусочек, чтобы запить его таким количеством воды!».
Выслушав его, адмирал, то ли тронутый этими словами, то ли почувствовав жалость, видя как его молит этот человек, простил и его и всех остальных пленных, которых было больше ста и которых ожидала такая лютая смерть. А когда ему представилось время и возможность, он высадил их на берег и отпустил, захватив самое галеру.
Из этой небольшой новеллы видно, какой силой обладают слова, если острота, какого-то, можно сказать, простого моряка смогла разжалобить столь жестокого адмирала. Какой же силой должна обладать молитва, когда она обращена к тому, кто есть само милосердие! И ничто так не веселит душу, как то, что идет от сердца. Никакая другая вещь, как эта, никогда не побуждала более господа нашего даровать спасение душе того, кто прочел ее от чистого сердца. Примеров тому много, как показывают евангелие и святое писание, но слишком долго было бы их пересказывать.
Приложения
В. Ф. Шишмарев. Франко Саккетти
Понимание и оценка каждого писателя имеют свою историю и тем более сложную, чем писатель крупнее. И так как чем он крупнее, тем больше у него связей с последующим развитием, то тем чаще воспринимается он в свете будущего и тем чаще встречаемся мы с его субъективной оценкой. В итальянской литературе примером литературной судьбы крупного писателя может служить Данте. Знакомясь с толкованиями комедии Данте или анализом его творчества и миросозерцания, мы знакомимся последовательно с веком Боккаччо, Ландино, Вентури, Коста, Томмазео, Россетти, де Санктиса и т. д. Так было в значительной мере и с Боккаччо, Фьямметта которого толковалась, подобно Беатриче Данте, как политическая аллегория. В предисловии к своей тонкой и проникновенной монографии о Боккаччо А. Н. Веселовский недаром предупреждал читателя о том, что «долгое общение с писателем, с которым он так часто беседовал, которому, быть может, чаще… подсказывал свои мысли, сделали, вероятно, и его биографию субъективной, как всякая другая».[567] Автор рассчитывал на свою историческую точку зрения, как на корректив, страхующий от предвзятости. Но, думаю, что всякий, знавший Веселовского ближе и изучивший его, найдет в его творце «Декамерона» некоторые черты таланта и личности его биографа. Так часто бывает, что портрет одного и того же, например русского человека, сделанный иностранными мастерами различных национальностей, носит на себе каждый раз отпечаток облика этих последних, отражающего в себе не только их физические особенности, но и черты их характера, определившиеся в процессе исторического развития.
Саккетти, гораздо менее крупная литературная фигура, нежели Боккаччо, имеет, естественно, и более скромную литературную историю.
Среди современников и земляков у Саккетти были и друзья и почитатели. Стихи Саккетти хвалил в своем сонете Филиппо дельи Альбицци, сравнивая поэта с трудолюбивой пчелой, перелетающей с цветка на цветок в поисках медоносной влаги; Бруно де Бенедетти да Имола характеризовал его как «милого Эрота»; Бенуччо да Орвьето посетил его во Флоренции и нашел его вполне достойным установившейся репутации; приветствует Саккетти также Антонио Кокко – поэт из далекой Венеции.[568]
Среди друзей и почитателей Саккетти мы находим целый ряд поэтов и писателей, частью дилетантов, частью профессионалов: Альберто и Филиппо дельи Альбицци, Антонио дельи Альберти, Джованни д'Америго, медиков, вроде сера Антонио, маэстро Бернардо, астролога и математика маэстро Антонио, знаменитого слепца-музыканта XIV в. Франческо дельи Органи, Джованни Мендини да Пьянеттоло, которого некоторые считают автором известного сборника новелл «Il Pecorone». Антонио Пуччи называл Саккетти «живым источником прекрасной речи» и добивался того, чтобы его приятель вывел его в одной из своих новелл, что Саккетти и сделал, описав в нов. 175 шутку, сыгранную его друзьями со знаменитым флорентийским поэтом-глашатаем и звонарем коммуны. Другой приятель Саккетти, Джованни ди Герардо да Прато, которого А. Н. Веселовский справедливо считает автором найденного, изданного и исследованного им романа «Il Paradiso degli Alberti», вероятно, дополнил новеллы Саккетти, 10 и 24, изображающие проделки одного из добрых знакомых писателя – шута Дольчибене, возведенного императором Карлом IV в сан «короля буффонов и гистрионов Италии», в своей 4-й новелле «Парадизо».
В XV в. с ростом латинской литературы Саккетти отходит в тень; гуманисты относятся к нему, как и к другим представителям литературы на народном языке, с пренебрежением, что не помешало, однако, Поджо Браччолини использовать 14 новелл Саккетти в своей латинской «Книге фацетий». Одним из побочных результатов упадка интереса к Саккетти было, между прочим, то, что новеллы и другие произведения его не были напечатаны; мало того, многие из них, как и самые их списки, пропали.
В XVI в. вместе с обновлением интереса к итальянской литературе обновился и интерес к Саккетти. Интересу этому мы обязаны, между прочим, сохранением списка его новелл. Во второй половине этого столетия имелась всего одна рукопись их. Винченцо Боргини, большой поклонник новеллиста,[569] велел снять с нее копию и сам сличил ее с оригиналом. Оригинал был уже тогда в плохом виде, а когда он несколько позже попал в руки Боргини, то оказался, по его словам, в еще худшем состоянии.[570] Об этой рукописи в дальнейшем мы больше ничего не знаем, и она, вероятно, пропала. Копия Боргини была разделена на две части, из которых каждая имела затем свою судьбу. Линия раздела проходила по середине новеллы 140, как о том свидетельствуют пометки самого Боргини. Первая часть – это ныне Magliabecchiana, classe VI, 112; в XVII в. она принадлежала известному эрудиту Антонио да Сангалло (ум. в 1636 г.), без визы которого нельзя было в ту пору продавать старинные книги и бумаги. Антонио в первую часть включил новеллы из второй части. Вторая часть ныне в Laurenziana, XLII, 12. Копией обеих частей является рукопись XLII, 11. В том же XVI в. из новелл Саккетти был составлен сборник избранных новелл – «Scelta», куда вошло 100 новелл из первой части копии Боргини и к ним было затем добавлено из второй части 34 новеллы.[571]
Составление сборника избранных новелл было делом депутатов по исправлению текста «Декамерона» и имело в виду издание «наиболее кратких и пристойных»[572] новелл Саккетти, причем исключались, как этого, видимо, требовали времена католической реакции, новеллы, в которых в неблагоприятном освещении выводилось духовенство. Об издании новелл Саккетти думал, вероятно, и Боргини, но те же опасения предать любимого автора в руки инквизиционной цензуры заставили его отказаться от своей мысли. И он был прав, так как «Декамерон», которого ввиду его распространения нельзя было не выпустить в свет, подвергся в издании 1573 г. строгому пересмотру. Что же можно было ожидать после этого для Саккетти? Депутация по изданию «Декамерона» могла только широко использовать Саккетти в своих комментариях.
Тем не менее сборник новелл Саккетти, хотя бы частично, был известен писателям и читателям XVI в., так что высокая оценка его является результатом не только знакомства понаслышке. Макьаявелли приводит в 3-й книге своей «Storie florentine» анекдот, почерпнутый из нов. 193, и на связь эту указывает Шипионе Аммирато.[573] Микеле Поччанти включает Саккетти в свой «Catalogus scriptorum florentinorum» (1589 г.). Вазари приводит ряд новелл Саккетти о художниках (Джотто, Буффальмакко) в своих «Vite dei pittori»; Боргини воспроизводит в своих «Arme delie famiglie fiorentine» (стр. 33) новеллу о Джотто (нов. 63). Наконец, ряд итальянских новеллистов чинквеченто и, между прочим, несомненно Страпарола и Лодовико Доменики воспользовались произведениями Саккетти как материалом.
Таким образом, о Саккетти вспомнили и оценили его; но не надолго. XVII век сделал в этом отношении скорее шаг назад. Те из писателей, которые пытались обратиться к Саккетти, ничему у него не научились; а те, кто ценили его, находили его писателем «со вкусом», любопытным, естественным, но были немногочисленны. Тем не менее XVII в. принадлежит первая попытка издания пьес, адресованных Саккетти его друзьями (L. А1-lacci в 1661 г.) и первый опыт биографии (Федериго Убальдини), хотя и оставшийся незаконченным и неизданным.
Положительные оценки Джан Винченцо Гравина[574] и Джован Марии Крешимбени[575] переносят нас уже в XVIII в. Заслуга этого столетия прежде всего в том, что оно дало первое издание новелл, о которых многие до того говорили, но лишь немногие делали это на основании личных впечатлений. Первое издание вышло в 2 томах в 1724 г. с фальшивой пометой: Флоренция вместо Неаполя (за ним сейчас же последовали две его контрафакции).[576] Издание это было приготовлено известным эрудитом Бишони и выпущено в свет при участии Джузеппе ди Лечче и Джованни Боттари, которому принадлежало в нем только предисловие.[577] В основу этого издания, как это вскрыл анализ М. Барби, положен список Laurenziana, XLII, 11 (т. е. копия копии Боргини) и кодекс каноника Лоренцо Герардини, извлеченный из рукописи Антонио да Сангалло. Кодекс Герардини, оказывается, как выяснил Барби, тождествен рукописи Campori App. 1028, хранящейся в библиотеке Эсте в Модене,[578] другая копия Герардини тех же новелл – Riccardiana, 2142; это список «Scelta», сделанный в XVII в.[579] Несмотря на уверения, издателей в том, что они отнеслись «религиозно» к тексту Laurenziana, Барби установил, что это не так.[580]
Как бы ни оценивать это первое издание новелл Саккетти, оно является моментом огромной важности в истории пробуждения интереса к нему и к изучению его творчества. Церковь отнеслась к этой работе, несмотря на участие в ней епископа Боттари, по-своему, а именно так, как этого боялся Боргини: 2 сентября 1727 г. новеллы были внесены в индекс запрещенных книг. Но дело было сделано, и перед интересующимися Саккетти теперь открывалось широкое поприще для анализа его творчества.
До сих пор, как мы видели, исследование новелл Саккетти сосредоточивалось главным образом на вопросах языка и на фиксации текста. Работа эта связана с деятельностью Академии делла Круска, программа которой обращалась прежде всего к этим задачам. Чисто литературный анализ сводился к общим суждениям и суммарным наблюдениям над творчеством Саккетти и сопоставлениям его с Боккаччо. В XVIII в. начинаются попытки более глубокого проникновения в искусство Саккетти, осложняемые попытками учиться у него технике новеллы. С этой стороны подходил к Саккетти, например, Гаспар Гоцци, стремившийся извлечь из пристального изучения Саккетти практические указания, которые он и старался использовать затем в своих новеллах.[581] Внимание Гоцци привлекал и язык Саккетти, но в первую очередь его стиль и трактовка тем и персонажей. Саккетти был для него «неиссякаемым источником остроумия и куртуазности (urbanitа) для тех, кто хочет рассказывать с изяществом и касаться, так сказать, наиболее сокровенных струн нравов и характеризовать дефектные персонажи и обрисовывать их в произведениях пера».[582]
В XIX в. интересы занимающихся Саккетти сосредоточиваются, во-первых, на опубликовании его произведений, которые далеко не все еще увидели свет, хотя новеллы занимают и в ряду новых изданий по-прежнему первое место. Вслед за изданием Боттари, главным образом в пределах XОX в., вышло в свет двенадцать полных изданий и свыше шести сборников избранных новелл. Помимо того, отдельные новеллы были включены в состав различных итальянских литературных антологий и хрестоматий. В XIX же веке было дано О. Джильи первое и пока единственное издание «Евангельских проповедей» Саккетти,[583] некоторое количество его стихотворений, появившихся в приложениях к другим изданиям.[584]
Двухтомное издание новелл, осуществленное Джильи в 1860–1861 г во Флоренции, представляет собой значительный шаг вперед по сравнению с изданием Гаэтано Поджали (Ливорно, 1795), которое послужило основой для ряда последующих. Джильи задался целью воспроизвести текст Саккетти на основе списка Боргини и считал своим авторитетом рукопись лауренцианскую XLII, 12, которую он дополнил частями мальябеккианской VI, 112. Однако на деле издание Джильи очень несовершенно, так как материалами своими, копией Боргини и изданием 1724 г. он пользовался без системы и вариантами других рукописей без строго установленного критерия. О «Scelta» и новых поправках Боргини Джильи не знал. На основе текста Джильи было выпущено в свет общедоступное издание новелл Саккетти, отредактированное известным итальянским литературным критиком Эудженио Камерини, которое он сопроводи \ ценными примечаниями и небольшим вводным очерком о жизни и деятельности писателя. Оно вышло в 1874 г. и было повторено в 1876-м.
Появление в свет упомянутых изданий в значительной мере облегчало работу историков литературы над Саккетти. В противоположность трем предшествующим столетиям, когда преобладали общие литературно-критические суждения о писателе, чувствовалось слабое знакомство с материалом, касающимся его биографии, и проявлялось воспитанное Круской по преимуществу филологическое отношение к его новеллам, в XIX в. отошли на второй план вопросы языка, их сменил всесторонний анализ творчества Саккетти. Впрочем, многие, занимавшиеся Саккетти, ограничивались почти исключительно биографией; таковы Тирабоски и Женгене, но в особенности Джильи, биография которого и до сих пор является обязательной отправной точкой для занятий Саккетти, конечно с добавлениями, сделанными к ней Л. ди Франча.
Работа издателей и биографов подготовила почву для литературного анализа материала. Осуществляя его, исследователи тронулись вперед тремя путями, из которых на двух, по крайней мере, работа велась и ранее. Литературные критики старались вскрыть характерные черты Саккетти – писателя, историки литературы – определить его место среди других литературных явлений современной ему эпохи или, наконец, вскрыть источники, которыми он пользовался для своих новелл. Этот последний путь, показательный для историко-литературных разысканий XIX в., и был новым третьим путем.
К наименее прочным результатам привел первый. В статьях Э. Камерини,[585] Р. Форначари,Э. Жебара и других можно найти, конечно, ряд тонких наблюдений, но делающие их впадают нередко в субъективизм, так как изолируют писателя от его среды и времени, и потому дают не всегда правильную оценку подмеченной черты, не всегда могут объяснить ее наличие и ее особенности в данном писателе. Нередко при этом самая характеристика бывает недостаточно исчерпывающей и самая работа оказывается очерком с весьма субъективной окраской. В этом отношении особенно характерен известный этюд о Саккетти Э. Жебара (1899), вошедший затем в сборник «Средневековые флорентийские рассказчики». Автор сосредоточил свое внимание главным образом на тематике новелл Саккетти и его морали, очень бегло и поверхностно остановившись на том и другом вопросах и минуя совершенно ряд других, тесно с ними связанных, без привлечения которых нельзя разобраться надлежащим образом и в выделенных им сторонах творчества Саккетти.
Так, например, нельзя было не учитывать религиозных взглядов писателя; нельзя было опускать их для правильного понимания возникновения морали новелл на Западе, которые сообщают нам «Евангельские проповеди» Саккетти. Гораздо более сложным представляется и политический облик Саккетти: сказать, что он был гвельфом «белым», консерватором, недостаточно и неверно. О пути, который прошел Саккетти, современник олигархического правления Альбицци и их падения, восстания «чомпи», перехода власти к Медичи, а затем к Альберти и, наконец, – возвращения Альбицци, автор умалчивает, устраняя всякое движение мысли из миросозерцания Саккетти, которое засвидетельствовано, однако, документально в его стихотворениях. Но отсюда ясно, что воспроизвести облик Саккетти с наибольшим приближением к исторической истине межно, только корректируя данные новелл данными других произведений писателя, и, как мы видим сейчас, не одних даже «Евангельских проповедей», а всей совокупности его работ.
В ряду литературных характеристик особое место занимает заметка известного лингвиста Г. Шухардта; она отличается своей краткостью (это всего 2 страницы), но в то же время меткостью суждений и тонкостью наблюдений.
Начало сравнительного изучения новелл Саккетти положил Джон Денлоп, которого дополнили Ф. Либрехт, Р. Келер. М. Ландау посвятил анализу Саккетти, с этой точки зрения, специальную главу своей истории итальянской новеллы. Но основной и новейшей работой о Саккетти в этом направлении является большая обстоятельная монография ди Франча, которая цитирована нами выше.
Автор приходит в ней к выводу, что из 223 новелл Саккетти большая часть основана на фактах, действительно имевших место, а меньшая воспроизводит традиционные темы, переходившие из поколения в поколение; на грани между ними стоят несколько новелл, комбинирующих элементы истории и традиции. Такое деление можно принять, но распределение новелл по этим категориям представляет зачастую большие трудности, в силу чего допущенные ди Франча в каждой из его основных групп сомнительные подгруппы должны быть, в сущности, гораздо обширнее. Я не говорю уже о том, что параллели к традиционным темам могут быть умножены; это не меняет существа классификации автора.
С другой стороны, книга ди Франча дает больше того, о чем говорит ее заглавие, обещающее как будто анализ одних только новелл Саккетти и характеристику его как новеллиста. В действительности мы находим в ней биографию писателя, в которой содержится ряд фактических поправок и дополнений к биографии, составленной Джильи, и, кроме того, главу о «Евангельских проповедях», характеризующих эту работу Саккетти вообще, и главу, представляющую исследование вкрапленных в проповеди новелл.
Некоторого естественного расширения рамок можно было бы ожидать и в заключительной главе, посвященной характеристике Саккетти – художника и моралиста на основании его новелл. Но ди Франча рассматривает Саккетти вне связи его с другими его произведениями, не новеллами, и вне его литературных связей с его временем. Такой подход к делу, конечно, возможен, но он невыгоден в смысле получения более отчетливых результатов. Традиционное сопоставление Саккетти с Боккаччо направлено у ди Франча к тому, чтобы оттенить разницу индивидуальностей, но не литературных направлений и социальных течений. В двух последних отношениях привлечение не новеллистического материала было бы также крайне важно.
Характеризуя Саккетти вслед за Де Санктисом как «последнего тречентиста», он ставит его, правда, в связь с определенной эпохой, но не определяет его места в кругу других ее представителей, хотя бы одних новеллистов, и не уточняет его социальных отношений или социальной базы его творчества. Если бы нам захотелось уяснить себе эти вопросы, то пришлось бы обратиться опять-таки к трудам по истории итальянской литературы и, в частности, к работе, которая пытается ответить на них более обстоятельно. Я разумею «II Trecento» Г. Вольпи.
Подобно многим другим, Вольпи видит в Саккетти, как и в А. Пуччи и в ряде других аналогичных писателей этой поры, представителя «городской буржуазной литературы» (letteratura borghese). Но определяет ли это социальный облик Саккетти, а следовательно, и направленность его творчества, когда и Петрарка, и Боккаччо принадлежали к той же среде? Такая характеристика слишком обща, ибо она не учитывает социальных группировок внутри городской буржуазии.
Таким образом, к началу XX в. мы приходим с большими итогами в отношении изучения Саккетти, нежели к началу XIX столетия. Сейчас основными задачами для изучения нашего писателя является прежде всего издание всего его литературного наследия и исследование, на основании такого издания, его творчества и его идей в целом и в связи с его окружением с целью уяснить, какое место занимает он в обстановке социальной и литературной борьбы его времени. Новое издание Саккетти, предпринятое Круской, намечалось под редакцией Микеле Барби и А. Скьяффинн. Монографии о Саккетти, которая бы рассматривала его в целом, мы пока не имеем. К сопоставлению Саккетти с Боккаччо вернулся Б. Кроче в своей статье «II Boccaccio e Franco Saccbetti», в которой сравнение делается по-прежнему в плане индивидуальном. «Буржуазная литература» и Саккетти как ее представитель остались и в новой редакции «Il Trecento» Вольпи, сделанной Н. Сапсньо. Я умалчиваю о вышедших в пределах XX в. компендиях по истории итальянской литературы: они исходят, естественно, из результатов того, что сделано за последнее время, и не дают ничего нового.
В дальнейшем я хотел бы рассмотреть только общественные и литературные отношения Саккетти, с целью установить его место среди социальных группировок, которые обозначились в его время, и охарактеризовать литературные школы эпохи, с представителями которых он был так или иначе связан.
* * *Франко Саккетти принадлежал к старинному флорентийскому роду, считавшему себя римским. Во всяком случае, Данте в XVI песне «Рая» причисляет Саккетти к древнейшим и известнейшим родам времен его предка Каччагвиды, наравне с фамилиями Джуоки, Фифанти, Баруччи, Галли. Саккетти придеоживались гвельфской ооиентации, в силу чего после битвы при Монтаперти они вынуждены были отправиться в изгнание, некоторое время жили в Лукке, и только после смерти Манфреда, когда власти гибеллинов настал конец, они получили возможность вернуться во Флоренцию. Как представители партии пополанов (народной), они были привлечены к общественной деятельности, и, когда Франко был еще ребенком, один из Саккетти (Форезе ди Бенчи) был избран сперва приором (1335 г.), а через несколько лет – гонфалоньером (1343 г.). Отец Франко, Бенчи дель Буоно, был купцом. Торговлей, или, как думает биограф Франко XVIII в. (предисловие к изданию новелл 1724 г.), Боттари, меняльными операциями, занялся уже в ранние годы своей жизни и сын. Семья Франко принадлежала, таким образом, по роду своих занятий к кругу влиятельных флорентийских семей, входивших в состав «старших Цехов» (arti magg;ori), по своему достатку она была связана, вероятно, больше со средними слоями городского общества.
Нам почти ничего неизвестно о юных годах писателя. Но зато мы знакомы хорошо с той социально-политической обстановкой, в которой они протекали. Со времени издания «Постановлений о правосудии» (Ord:namenti dеlia g-ustizia. 1293) с дворянством (grand) дело было покончено; оно могло добиться изгнания инициатора «Постановлений», Джана делла Белла, оно могло мечтать о восстановлении своей прежней роли и даже пытаться иногда проводить мечту в жизнь, но возврат к старому порядку был невозможен. За преступления против личности и имущества горожан дворяне подвергались суровым наказаниям вплоть до смертной казни, причем ответственность дворянства определялась круговой порукой. Боккаччо, оставивший Неаполь по вызову отца и вернувшийся во Флоренцию в начале 1340 г., так оценивает в своем «Амето» (1340–1341) положение родного города: «Несмотря на различные превратности судьбы, он вышел из пережитых волнений сильнее и прекраснее прежнего; расширив свои владения, многолюдный, он заключил в своих стенах враждебные волны; ныне он могущественнее, чем когда-либо, его границы простерлись далеко; подчиняя народному закону непостоянную кичливость грандов и соседние города, он пребывает в славе, готовый и на более великое, если страстная зависть и жажда любостяжания и невыносимая гордыня, в ней властвующие, ей в том не помешают, как того позволено опасаться». Как человек, пребывший в течение двенадцати лет вдали от Флоренции в совершенно ином социальном и культурном окружении и политической обстановке, Боккаччо, может быть, особенно отчетливо видел те противоречия флорентийской жизни, последствий которых он опасался. И опасения его не замедлили сбыться.
Не будучи в состоянии держать в своих руках Лукку, Мастино делла Скала предложил флорентийцам продать им город. Флорентийцы согласились, ни они наткнулись при осуществлении своего плана на сопротивление пизанцев, не желавших их усиления. Это привело к войне между Пизой и Флоренцией и к целому ряду осложнений, так как оживило виды неаполитанского короля на Тоскану, виды, как будто имевшие шансы на реализацию в ту пору, когда в Италию не являлся император, а папа продолжал оставаться в далеком Авиньоне. Впрочем, флорентийцы сами подливали масла в огонь. В свое время они в течение восьми с лишним лет предоставляли королю Роберту синьорию над городом; в 1326 г. они предложили ее его сыну Карлу, герцогу Калабрийскому. Флоренция искала гвельфской опоры на случай гибеллинской опасности. В 1341 г. Роберт пытался действительно через своего сенешаля – флорентийца Никколо Аччайуоли, уговорить враждующие стороны уступить Лукку ему; но план этот не удался. Между тем флорентийцы терпели военные неудачи. Тогда они решили призвать на помощь бывшего викария Карла Калабрийского, Готье Бриенского, с помощью которого гвельфская партия надеялась довести войну до победы. Однако надежды очень скоро уступили место разочарованиям. Одновременно флорентийские гвельфы стали искать новых союзников. Забыв о своей политической ориентации, они обратились за помощью к императору Людовику Баварскому. Когда весть об этом достигла Неаполитанского королевства, то обращение эго было истолковано как переход Флоренции в гибеллинский лагерь. Из флорентийских банков стали изымать вклады, так что в 1342 г. многие из них дошли до банкротства или потери кредита. Кроме того, в деятельности временного правительства «двадцати» обнаружены были растраты и недочеты. Общественные противоречия обострились. Руководители флорентийской политикой, представители старших цехов, пополаны-оптиматы (popolani grassi), вынужденные принять срочные и энергичные меры для спасения своего положения, предложили Готье диктаторские полномочия на один год. Лишенная прав аристократия, гранды, была довольна в глубине души, так как рассчитывала, что Готье восстановит ее положение в городе. Плебеи, с которыми Готье заигрывал, возлагали на него надежды как на своего защитника перед забравшими власть богачами. Но Готье показал себя скоро человеком жадным, вероломным и жестоким, и по существу – ловким авантюристом, который обманывал всех с целью установления единоличной власти. В 1342 г. он был провозглашен пожизненным властителем (dux et dominus) Флоренции, но уже через одиннадцать месяцев он очутился осажденным народом в Палаццо Синьории и был изгнан из города. В том же 1343 г. гранды попытались вернуть себе утраченнсе положение вооруженной рукой. Флоренция стала ареной кровавой борьбы аристократических и демократических элементов. Последним это стоило немалых усилий, но и со стороны грандов это была последняя попытка реставрации старого порядка.

