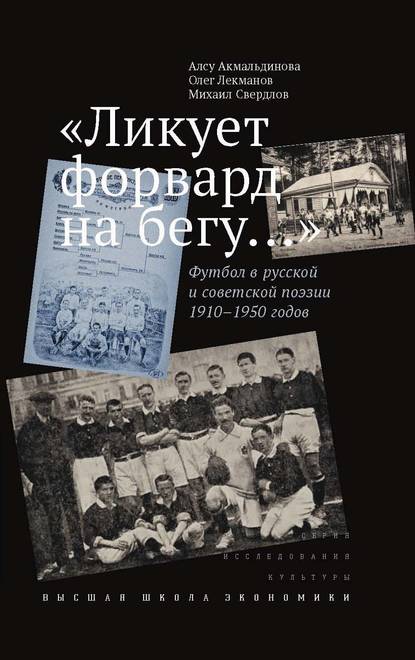Полная версия
Спор о Платоне. Круг Штефана Георге и немецкий университет

Михаил Маяцкий
Спор о Платоне: Круг Штефана Георге и немецкий университет
Если огня кто бежит,
Спутником станет огню.
Штефан Георге[1]© Маяцкий M.А., 2012
© Оформление. Издательский дом Высшей школы экономики, 2012
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
Предисловие
Уникальный союз учеников-послушников вокруг немецкого поэта Штефана Георге, знаменитый «George-Kreis», давно стал легендой европейской интеллектуальной истории рубежа XIX–XX веков и первой трети XX века. Близкий к георгеанцам в 1920-е годы Ханс-Георг Гадамер выразил ощущение многих современников: из Круга Георге исходила твердая вера в то, что «вне церкви нет спасения», что истина держится только коллективным усилием увлеченных одним идеалом людей, и что, следовательно, оставшиеся вне Круга обречены остаться непричастными этой истине. Георгеанцы формулировали свой идеал в терминах вечного и всевременного, но, как водится, именно этим они и были укоренены в злобе дня, в том «духе времени», которому они, как и другие консерваторы и антимодернисты, изо всех сил пытались противостоять и в который, как это становится очевидно при ретроспективном взгляде, они сами вложили свою необходимую и столь узнаваемую лепту. Романтический культ героев и страсть к воплощению требовали от георгеанцев реализации их идеала – в поэзии, скульптуре, афоризме, книге, но прежде всего в Великом Гештальте. На кого равняться? Кого произвести в Pontifex Maximus секулярно-неоязыческого георгеанского культа? Слишком дежурно-всеобще любимого Гёте? Слишком одинокого Ницше? Слишком скрытно-эзотеричного самого Георге? Постепенно кристаллизуется столь же неожиданный, сколь и самоочевидный выбор: Платон!
Эта книга о том, как поэт и несколько его соратников смогли бросить вызов университетской машине, «ведающей Платоном», как складывалось взаимодействие между кафедрой и иным, беспрецедентным, местом знания и его производства. Сегодня, кажется, от странного феномена георгеанской платонолатрии не осталось и следа: имена авторов практически полностью исчезли из научного оборота и даже из – обычно стремящихся к полноте – научных библиографий. Слишком несвоевременно-наивной представляется задача не просто изучать, но жить и переживать Платона, слишком быстро устарели стиль и подход георгеанцев, слишком тенденциозна была их политическая мотивация. Но не будем спешить с выводами. Пока мы философствуем, мы продолжаем, по словам Уайтхеда, писать вереницу сносок к Платону. И никому не дано сказать здесь последнее слово.
* * *Книга резюмирует исследование, которое я вел при финансовой поддержке Швейцарского национального фонда[2] и при содействии ряда архивов: в первую очередь Stefan George-Archiv в Штуттгарте (StGA), затем Deutsches Literaturarchiv в Марбахе (DLA), архивов университетов Базеля и Мюнхена, архива и библиотеки издательства «Castrum Peregrini» в Амстердаме, а также Berlin Document Center. Я глубоко признателен коллегам, которые на разных этапах работы оказали мне многоплановое содействие: прежде всего незаменимой Уте Ольман (Ute Oelmann), руководительнице Архива Штефана Георге в Штутгарте, а также: Адриану Баро (Adrien Barrot), Бернхардту Бёшенштайну (Bernhard Böschenstein), Михаэлю Дефустеру (Michael Defuster), Рольфу и Хильде Фигут (Rolf & Hilde Fieguth), Андре Лаксу (André Laks), Михаэлю Лентцу (Michel Lentz), Михаэлю Нарси (Michel Narcy), Доминику O'Mapa (Dominic O'Meara), Марте Родэ-Лигле (Martha Rohde-Liegle), Штефану Бодо Вюрфелю (Stefan Bodo Würffei).
Я приношу им всем глубокую благодарность.
Seid alle ganz herzlich bedankt!
І. Круг Георге, наука и античность
1. История философии Versus рецепция
Что удивительного в том, что великого философа внимательно и почтительно изучает поэт и его поэтический кружок? Значительно реже встречается, что чтение и поклонение принимают форму постоянную, систематическую, что, наконец, они воплощаются в многочисленных публикациях, оказывающих воздействие и на университетскую философию, хочет она того или нет. А она, как правило, этого воздействия не хочет, как не хочет и признавать сам его факт.
Рецепцию учения любого великого философа постигают регулярные пересмотры, чистки, переоценки наследия, выпячивание одного и забвение другого его элемента. Она сродни скорее моде, чем упорядоченному накоплению. На нее влияют самые разные силы: внешние «событию мысли» факторы, политические ожидания, литературные качества текста сталкиваются с аспектами «интерналистскими»: с вызреванием толкования, с учетом (или игнорированием) исторического контекста создания произведения или способа мысли, с выяснением важности того или иного момента, с встраиванием мыслителя в ту или иную серию или генеалогию и т. д. Некоторые толкования могут быть объявлены ошибочными в результате долгих, а то и многовековых дискуссий. Другие покидают сцену не потому, что обнаруживают свою откровенную неадекватность, а в силу моральной усталости, ухода активных пропагандистов и других относительно случайных факторов.
В изучении истории идей уместно различить две фигуры, даже если они в некотором смысле «идеальны». Конкретное историко-философское исследование обычно занято уяснением «самой мысли» философа и если обращается к предыдущим интерпретациям его учения, то чтобы их оспорить или, напротив, чтобы опереться на них в поисках дополнительной легитимации. Исследование же рецепции принимает «самого философа» за вещь-в-себе и сосредоточивается на его интерпретациях. В этом смысле оно представляет собой своего рода вызов (если не пощечину) добропорядочной истории философии: вовсе не обязательно отбрасывая идею прогресса в понимании того или иного философского явления, оно не отказывает в праве на существование никакой из былых попыток толкования и даже в конечном счете больше интересуется интерпретациями заведомо «ложными» (тенденциозными, пристрастными, преувеличенными, искажающими, гротескными), чем теми «правильными» прочтениями, которых ищут (и часто убеждены, что «нашли») те, кто считает, что существует единственно верный подход к тому или иному философскому учению.
Такая несколько парадоксальная направленность исследования рецепции паразитирует на определенной профессиональной аберрации историка философии. Постоянно общаясь с изучаемым автором (даром что историческая дистанция от него может достигать тысячелетий), он невольно проникается тем убеждением, будто и является (наряду со своими коллегами по цеху) его идеальным читателем – поскольку легитимно обладает способностью к единственно правильному прочтению или, по крайней мере, такового взыскует. Это к нему обращался древний автор, на его проницательность и эрудицию рассчитывал.
Именно это простительное и, вероятно, плодотворное заблуждение профессиональных наследников философской традиции и оспаривалось в Кругу Георге. Георгеанцы не только не признавали университетскую монополию на истину, но и считали современное профессорство неадекватным, недостойным и неспособным преемником древнего наследия. Соответственно, себя они считали к этому наиболее пригодными. Почему? На каком основании? На том, что георгеанцы ставили не на знание, а на жизнь (откуда их учебно-энциклопедическое зачисление по разряду «философии жизни»): вопреки духу времени (как они его истолковывали) они приняли решение жить и творить, равняясь на высшие, классические, древние поэтические, художественные и философские образцы, среди которых Платон – не сразу, но тем вернее – занял самое почетное место. В своей эпохе и в ее Zeitgeist они видели главного своего врага. Эстетически они были, несомненно, антимодернистами, а политически – активными участниками того, что позднее получило наименование «консервативной революции», при том, разумеется, что георгеанская идиома этими «-измами» не исчерпывается.
Чем же был Круг Георге и, для начала, кем был его харизматический лидер?
2. Поэт и вокруг
Георге родился в 1868 году в семье винодела, у Рейна, вблизи города Бингена. Область в прошлом находилась под французской юрисдикцией, французский был не вполне чужим языком, и мальчика звали Этьен Жорж, и даже – на местном говоре – «Шорш». С малолетства одаренный к языкам мальчик в 7 лет изобрел для общения с друзьями и новый язык, на который перевел, в частности, начало «Одиссеи». Юношей он немало путешествует по Европе. Первый стихотворный сборник выходит в 1890 году. Но уже после третьего сборника, «Алгабал» (1892), наступает ощущение достижения вершины, выше которой подняться не удастся. Кризис (усугубленный бурной и краткой влюбленностью в Гуго фон Гофмансталя, едва не закончившейся дуэлью) преодолевается постепенно, в многочисленных контактах с символистами ипостсимволистами во Франции, Бельгии, Италии и других странах. В том же 1892 году выходит первый выпуск альманаха «Листки за искусство» («Blätter für die Kunst») – давно задуманного Штефаном органа поэтического Интернационала. Редакция «Листков», затем эфемерная компания «мюнхенских космистов» (Л. Клагес, А. Шулер[3], Ф. Ревентло, К. Вольфскель), салоны Лепсиус и Вольфскеля, многочисленные кружки почитателей поэзии и высокого искусства, и прежде всего Academia Urbana, ассоциация профессоров и студентов, поклонников поэзии и всего высокого в Нидершёнхаузене, становятся ступенями формирования будущего Круга. Параллельно всё более отчетливыми политико-воспитательными императивами наделяются вехи поэтические. Рядом с ауратичной таинственностью и монументальной афористичностью георгеанских сборников («Год души», «Ковер жизни», «Седьмое кольцо», «Звезда союза», «Новая империя») стихи большинства участников «Листков» (здесь публиковались и Вольтере, и Валентин) часто обнаруживают эпигонский характер[4]. Практически каждый далекий или близкий участник Круга пишет стихи, хотя далеко не каждый проходит строгую эстетическую цензуру Мастера (так всё чаще называют Георге в письмах и дневниках георгеанцы). Множество стихов осталось в письмах, в рукописях[5]. Любовь к поэзии (как таковой, не только самого Георге) и ее приоритет над всеми остальными сферами жизни (политика, профессия, быт) были абсолютной и само собой разумеющейся заповедью.
Не связанный узами брака, Георге обрел подлинную семью в том, что стало и главным его опусом: в том уникальном союзе, «секрет» механизма которого и до сих пор не вполне понятен. Наименование «Круг Георге» (сначала Georgischer Kreis или Kreis um George, затем всё более устойчиво Georgekreis или, чаще, George-Kreis) возникло за пределами Круга и вызвало в нем сначала определенное сопротивление, чтобы затем, с конца 1900-х годов, стать и самоназванием ассоциации. Разбросанная по ряду городов (между которыми он, не имевший, кроме отчего, своего дома, и путешествовал, останавливаясь у друзей), она представляла собой целую серию кружков или пар: учитель/ученик, ведущий/ведомый, но часто без строгого распределения ролей. Пока платоновская Академия не стала ее моделью, она вдохновлялась примером средневековых монашеских или рыцарских орденов или других «мужских союзов». Гомоэротические мотивы для поэзии Георге, впрочем, вполне конститутивны, и наверняка для многих георгеанцев не остались лишь мертвой буквой.
Так описывает механизм жизни Круга германист Клод Давид, оговаривая схематичность своего описания:
Круг никак не напоминал замкнутую секту. Если один из друзей Георге – Вольфскель, Гундольф, Вольтере – обнаруживал в каком-нибудь юноше[6] поэтический дар или полагал, что в его манерах угадываются требуемые для новой «знати» качества […], его приглашали, расспрашивали о том, что он читает, какие у него склонности и взгляды. Ему читали стихи, предлагали почитать самому. Если приходили к выводу, что первое впечатление их не обмануло, то вскоре он принимал участие в обмене идеями, в маленьких праздниках. Завязывались дружеские связи, кристаллизовывались общие интересы. Через чтение тех же мастеров и в первую очередь Георге, через медленное взаимное притирание, юношу вводили – без уроков, без доктрины – в образ мысли послушников, в их мораль и закон[7].
Одни ученики приводили других. Некоторые предпочитали образовывать пары, другие объединялись в более многочисленные группы. Каждый послушник входил в Круг по-своему, и «закон» применялся к каждому по-разному, недаром он был неписаным. Одним Мастер настоятельно не советовал жениться, других привечал с женами и детьми; с одними встречался очень часто, других собой не баловал; с одними переписывался лично, другим передавал свои распоряжения через «секретарей»; одних ослушавшихся отдалял постепенно, других изгонял, требуя сжечь письма и т. д. Угадывание «воли Мастера» было для георгеанцев местным спортом, повседневным упражнением.
«Листки за искусство» были не просто печатным органом, но и способом отбора новой поэтической элиты, призванной спасти культуру от разлагающего рационализма. Круг авторов не противопоставлялся читателям, но скорее вербовался из них. Пока что цели формулировались в эстетических, от силы эстетико-социальных категориях. Если здесь – учитывая продолжение – можно было угадать некоторое политическое измерение, то оно выражалось именно в этом координировании усилий, а не в каком бы то ни было участии в политике. Предисловие к 1-му выпуску «Листков» начинается недвусмысленно: «название этого издания говорит отчасти само за себя: служить искусству, особенно поэзии и писательству, исключая всё государственное и общественное»[8]. Во главу угла создатели ставили стремление к духовному искусству на основе новой чувствительности [fühlweise] и той ремесленной сработанности произведения, которой сын винодела и мастер на все руки Штефан Георге дал просторечное имя «mache».
В «Листках» печатались почти исключительно образцы новой поэзии – прежде всего самого Георге и далее К. Вольфскеля и Г. фон Гофмансталя, а также переводы из Малларме, Верлена, Суинберна, д'Аннунцио. Сборники предварялись, как правило, краткими анонимными передовицами, носившими характер эстетических манифестов и в основном писавшимися Мастером. В 1910 году начинает выходить второй, уже чисто теоретический, орган – «Ежегодник за духовное движение». Интонации становятся более критическими и воспитательными. От прежнего само собой разумевшегося «l'art pour l'art» не остается и следа. Место богемного дендизма юности заступает осознание великой культурной миссии. Георге всё больше воспринимает себя как воспитателя («из всех занятий больше всего мне нравится натаскивать [drillen]» или «каждый человек/мужчина на три четверти щенок» – таковы провокативные девизы Георге этого периода[9]). Если Ницше лишь мечтал о «культурной сотне», способной спасти мир от упадка, то Георге готов сделать то, на что Ницше оказался неспособен: воспитать эту «сотню». Идеология Круга отталкивается от Ницше и… отталкивает его. Он – важнейшая, ключевая для Круга фигура и вместе с тем символ неудачи[10]. Едва не главным камнем преткновения по отношению к Ницше стал как раз Платон, и когда Платон стал занимать в начале 1910-х годов господствующее место на георгеанском Олимпе, пришла пора окончательного выяснения позиции Круга относительно Ницше. Георге писал в это время Ф. Гундольфу: XIX век был лишь огрубевшим XVIII, «и, однако, у Ницше в общем всё уже есть. Он понял существенные великие вещи: он только не понял пластического Бога (отсюда его непонимание греков, особенно Платона)»[11].
Если первое поколение георгеанцев (более или менее сверстников «Мастера», который, кстати, не был еще монопольным держателем этого титула: так называли и Карла Вольфскеля, и Людвига Клагеса, и Вацлава Ролич-Лидера…) держалось силой поэзии и эстетики, то второе было гораздо более политизировано и идеологизировано. Две фигуры особенно сильно определили это развитие: Фридрих Вольтере и Фридрих Гундольф.
Фридрих Вольтере (1876–1930) был историком, учеником Курта Брайзига и Густава Шмоллера. Блестящий историк и педагог, Брайзиг одним из первых в академической среде заметил поэзию Штефана Георге[12] и завязал с ним дружбу, прервавшуюся только когда Георге «переманил» к себе лучших учеников Брайзига, прежде всего Вольтерса. Община студентов и преподавателей, насчитывавшая до 200 человек, собиралась в самом начале века вокруг Брайзига в пригороде Берлина Нидершёнхаузене (а затем в Лихтерфельде). Ее называли иногда Academia Urbana (уже с осознанной отсылкой к Платону). Здесь читались и разыгрывались по ролям античные и современные стихи и драмы; сюда среди прочих приглашался и Штефан Георге. Община в Нидершёнхаузене стала фактически генеральной репетицией собственно его Круга. Вольтере, один из активных участников общины, специализировался по французской и прусской истории (особенно политической и аграрной), преподавал историю в гимназиях, а затем в университетах Марбурга и Киля (где в 1923 году стал ординариусом). Он познакомился с Георге в 1904 году (ему уже было 28 лет), но в близкую орбиту вошел не сразу и не без труда (причиной, кроме «престарелого возраста», могла быть глухота Вольтерса к гомоэротическим мотивам или же свойственный ему преувеличенно гимнический тон, лишенный малейшей иронии, над чем Георге был склонен подтрунивать). Только в 1909 году статья «Господство и услужение» [Herrschaft und Dienst][13] убедила Мастера в том, что ее автор может оказаться в высшей степени полезен для дела – дела, которое, собственно, лишь теперь и под пером Вольтерса стало принимать черты государства (пусть «тайного» и «духовного»). Можно без преувеличения сказать, что Вольтере объяснил Георге его миссию в новых для Георге терминах. В период Первой мировой войны (в которой он принял восторженное участие, хотя и не на передовой: он служил курьером) в деятельности Вольтерса усугубляются националистические и шовинистические акценты («Речи о Родине», 5-томная книга для чтения «Немец» и т. д.). Еще в 1913 году он начинает готовить монументальную историю движения вокруг Георге и завершает ее незадолго до своей смерти в 1930 году. Роль георгеанского «апостола Павла», которую исполнял Вольтере в течение последних 20 лет своей жизни, не всем соратникам была по вкусу. Несомненно, что определенную ревность ко всей «нидершёнхаузенской клике» (кроме Вольтерса, в нее входили Курт Хильдебрандт, Бертольд Валентин и братья Андреэ – Фридрих и Вильгельм) испытывал другой лагерь, более или менее гейдельбергский: братья Фридрих и Эрнст Гундольф, Эрнст Морвиц и их многочисленные друзья и подопечные. Группировке Вольтерса они ставили в упрек открытую политизацию «духовного движения».
Фридрих Гундольф (урожд. Гундельфингер[14]) (1980–1931) был первым из воспитанников (не только Junge, но и Zögling) Георге. К Георге его, 18-летнего, привел в 1898 году Карл Вольфскель, родители которого дружили с семьей Гундельфингеров. Георге сразу признал поэтический дар юноши, к которому обращается в письмах «мой дорогой поэт». В это время Гундольф начинает учебу в Мюнхенском университете, затем учится в Гейдельберге и Берлине. Среди его профессоров были В. Дильтей, Т. Липпс, Г. Зиммель, Г. Вёльфлин. Интенсивное общение с Георге продолжалось более 20 лет. С начала 1920-х годов происходит драматическое взаимоохлаждение: в 1920 году Гундольф против воли Мастера и к его большому неудовольствию отклоняет приглашение принять место профессора в Берлинском университете. Свою роль в охлаждении сыграла и внутрикруговая конкуренция с Вольтерсом & Со. «Отлучение» от Георге (но отнюдь не от всех членов Круга!) было вызвано и женитьбой Гундольфа в 1926 году. Во всей своей чрезвычайно плодотворной научной деятельности и до и после разрыва с Георге до самой смерти в 1931 году Гундольф воплощает георгеанскую программу (в своей трактовке, разумеется). Показательны его письма Георге в 1910 году по завершении габилитационной диссертации, которую он характеризует так:
Это живой, всеохватывающий и строго построенный компендиум Духовного движения, точно так же, как твои книги стали его Библией. (…) Я знаю, что я за два месяца [работы][15] обрел новый смысл и оказал «государству» величайшую услугу, которую ему только можно оказать. [И месяц спустя: ] Если мне суждены еще десять лет здоровья, то я стану тем человеком, который сделает твои заветнейшие мысли и переживания общим достоянием немецкого общего образования в лучшем смысле слова, т. е. немецкой молодежи[16].
Причины конкурентного напряжения в отношениях с группой Вольтерса были смешанные: кроме идеологических и политических разногласий имелись и личные. И Гундольф, и Морвиц, и Роберт Бёрингер были личными друзьями Мастера (в частности, систематически обращались к нему в письмах на Ты [Du]) и сообразно с этим настаивали на ценности дружбы и эроса, тогда как Вольтере со товарищи стремились превратить Георге в предмет культа (сначала своего, затем по возможности общенационального) и подчеркивали поэтому дистанцию, без которой невозможно никакое поклонение. Морвиц одно время не мог уже слышать слово 'Круг' (что было для вольтерсианцев полным кощунством)[17]. Бёрингер чуть не дошел до рукоприкладства, протестуя против вольтерсовского «политического» поворота[18].
Конкуренция с Вольтерсом стала особо очевидна, когда в одном и том же восьмом выпуске «Листков за искусство» за 1908–1909 год вышли статьи со сходными, если не сказать параллельными, названиями: «Господство и услужение» Вольтерса[19] и «Следование и послушничество» [Gefolgschaft und Jüngertum] Гундольфа. В этих статьях больше сходства, чем различий; тем важнее эти последние. Для Вольтерса главное – власть и добровольное, восторженное ей подчинение; для Гундольфа важна любовь к Мастеру – и не за его власть, а за то, что он ведет к новому познанию. Если Гундольфу Мастер предстает посредником между учеником и Идеей, то для Вольтерса Мастер воплощает Идею. Вольтере со всей риторической мощью настаивал на действии, деянии, на деятельном характере и правителя, и учеников (более чем просто единомышленников – соратников!), тогда как у Гундольфа Мастер остается хранителем ценностей и воспитателем учеников. Наконец, если воспитание увенчивается для Гундольфа расцветом личности, венцом служения у Вольтерса выступает самопожертвование [Selbsthingabe][20]. Несомненно, таким образом, что Вольтере однозначнее и определеннее вписывал образ Мастера в общий для «консервативной революции» культ вождя.
Так или иначе во втором поколении идея «государства» вызвала ощутимое сопротивление и стала структурирующим принципом лишь в следующем, третьем поколении (Макс Коммерель, братья фон Штауффенберги, Йохан и Вальтер Антон, Вальтер Эльце, Рудольф Фанер, большинство из которых были «завербованы» в Круг Вольтерсом). «Государство», которое в разное время называлось еще «духовная империя»[21], «тайная Германия», «маленький отряд» (или сонм, куча, толпа) [kleine Schar], должно было сложиться вокруг некоего неконфессионального культа, в основе которого лежала убежденность в неоспоримом приоритете поэзии над любой человеческой деятельностью, поэзии, понятой и в узком смысле стихосложения, и в широком – как творчество, воплощение, то есть обращение идеального и предвечного в плоть. Пантеон святых в этой светской религии включал прежде всего поэтов и философов – Платона, Данте, Шекспира, Гёте, Ницше, Гёльдерлина, самого Георге, и великих политических творцов – Цезаря, Фридриха II Гогенштауфена, Наполеона. Подобно гётевскому Вильгельму Майстеру, георгеанцы полагали, что следовало поклоняться, «служить» этим вождям и иконам духовного царства просто в силу императива «почитать – а не пытаться понять – то, что выше тебя». Насколько этот культ духовных и политических вождей предвосхищал (или даже «приближал») грядущий национал-социализм, является одной из самых спорных и сложных проблем георгеанских исследований. Очевидно только, что «политика аполитического»[22], проводимая Штефаном Георге, требовала от него сопротивляться однозначной его аппроприации молодым режимом (так, уже в 1933 году он отклонил «лестное» предложение министерства культов войти в Поэтическую академию), но не запрещала ему иметь в ближайшем ядре Круга откровенных нацистов, пусть и «высокодуховных», и брезгующих плебейскими манерами новых вождей.
Историю коллективного творческого и интеллектуального усилия вокруг Штефана Георге невозможно оторвать от авто-историографии: архивизация, документализация происходящего рано стали в Кругу одержимостью. Зафиксированная по свежим следам в дневниках и письмах, история Круга еще при жизни Мастера стала предметом монументальной монографии, написанной одним из главных идеологов Круга Фридрихом Вольтерсом под прямым контролем Георге. Ее название («Штефан Георге и "Листки за искусство"») сопровождалось подзаголовком: «Немецкая духовная история после 1890 года», несуразный нарциссизм которого дает представление о немалых амбициях Круга и его вождя. Самоархивизация никак не отменяла, а напротив, дополняла культ тайны и понимания с полуслова. Насколько было возможно, Георге избегал и строгой идентификации своей ассоциации. Ее члены предпочитали апофатическое самоопределение: мы не клуб, не салон, не церковь, не секта, не ложа, не кафедра… За этим избеганием, кроме боязни слишком определенной (и поэтому слишком «рассекречивающей») самоидентификации, стояла и трудность самоосознания группы, точных аналогов которой не было ни в Германии, ни, вероятно, нигде в Европе.