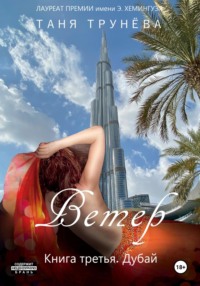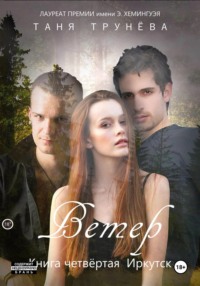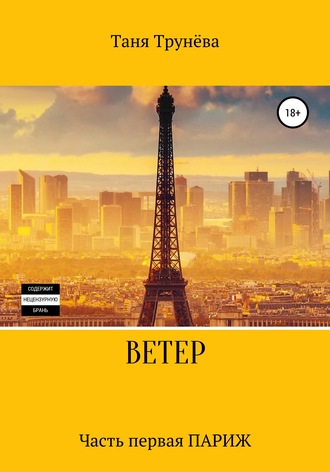
Полная версия
Ветер. Книга первая. Париж

Таня Трунёва
Ветер. Книга первая. Париж
Пролог
Париж – первая книга серии романа ВЕТЕРДетские мечты о Париже, а вот и он, желанный город! Но в пути героиню ждёт боль и рискованные игры, а ещё … любовь, колдовство, побег, война и новая страсть, встреченная на другом континенте.
Она бежала, не разбирая дороги. Тайга гудела, словно живая, ветки рвали одежду, а воздух резал лицо. В детстве отец учил: «На охоте жалости нет. Выживает тот, кто смекалистее». Теперь это звучало как приговор. Но охотницей стала не она – охотились на неё.
И всё же впереди свет – огни чужого города, другого мира, где можно спрятаться, начать заново, пусть и под чужим именем. Она ещё не знала, что судьба проведёт её через разные страны и города, что любовь будет соседствовать с предательством, а смерть – с надеждой.
Ветер уже поднялся, и несёт Катю к интригующим встречам и опасным тайнам!
1. Встреча

Поразительными сюрпризами балует нас жизнь, сталкивая с забытым прошлым или с бывшими друзьями. Часто их истории, скрываемые долгие годы, выплёскиваются наружу, обдавая жаром приключений или холодом ужаса.
Увлекаемая весенним настроением, я вышла пройтись по шумевшей многоголосой толпой набережной Сены. Ветер колыхал в воздухе речную сырость, разбавляя её сладковатым запахом цветущей магнолии. Сегодня меня не отпускало предчувствие мчавшейся навстречу тайны, и хотелось погасить его в уединении.
Каменные химеры с высоты стен собора Парижской Богоматери взирали на меня с надменной гримасой. Я не спеша вошла в храм и, присев на скамью, тут же уплыла в потоке умиротворённости.
В мои спокойные мысли ворвался стук каблучков. Я краем глаза заметила изящную, со вкусом одетую женщину, она опустилась на скамью рядом. Сквозь гулкое пение органа прошелестел её голос: «И прости нам прегрешения наши, как мы прощаем должникам нашим…»
Русская речь слышна в Париже повсюду. Я чуть повернула голову, чтобы лучше разглядеть соседку. Молодая светловолосая женщина, склонившись, шептала молитву. Она вдруг резко скользнула по моему лицу проницательным взглядом.
Горячая волна туго перехватила моё дыхание, и в голове мгновенно прозвучал голос школьной учительницы рисования: «Рисовать с натуры сложно, а по памяти ещё труднее. Вот ты, Таня, посмотри внимательно на свою подругу Катю и попробуй её нарисовать». Я тогда подвела к окну хрупкую девочку и в тусклых лучах сибирского солнца долго разглядывала задумчивое бледное лицо, обрамлённое тёмно-русыми завитками: нежная кожа, пухлые губы, нахмуренные тёмные брови вразлёт и глаза… сверкающие, серо-голубые, как байкальская вода.
Под куполом торжественно вздохнули затихающие аккорды органа. Я выпрямилась, сдерживая дрожь изумления, и горячо шепнула:
– Катька?! Семёнова?
«Неужели она? – промелькнуло у меня в голове. – Конечно! Это её, всё тот же полный загадочного притяжения взгляд».
Я живо вспомнила, как штормило от сплетен наш провинциальный городок, когда, после трагедии в охотничьем домике, Катя внезапно исчезла, а разговоры о случившемся, пронизанные тёмными догадками, не стихали ещё несколько лет.
Блондинка явно меня узнала. Она передёрнула плечами, будто стряхивая смятение, затем внимательно осмотрелась. Собор, всегда полный туристов, был величаво просторен – лишь небольшие группы посетителей, занятых изучением витражей. Женщина кивнула мне в сторону двери, и мы вышли из собора на площадь Парви.
Я взяла её за руку, почувствовав крепкие пальцы, привыкшие к охотничьему ружью. Тёплая ладонь слилась с моей, прохладной от волнения.
– Помнишь? Мы учились в одном классе… в Усолье и дружили. Ты ведь Катя Семёнова? Как ты оказалась в Париже? Мы тебя давно считали пропавшей после того… – я запнулась, стараясь выбрать уместное «после того случая» или «после убийства» – мой шёпот обрывался уличным гулом. – Сколько же лет прошло? Однако, больше десяти…
Лицо одноклассницы мягко светлело, и разделявшие нас годы тонули в щебетании французской столицы.
– Я вот… приехала встретиться с… – Она помедлила.
– Да где ж ты теперь? Откуда приехала?
– Издалека.
2. Сибирь
Зима в тот год выдалась лютая, колючая. Застывшие груды снега, упираясь в окна, звенели рассыпающимися льдинками. Еловые ветки с нахлобученными шапками снега кивали голым осинам. Между ними, в обнимку с тонкими прутьями багульника, танцевала позёмка.
Молчаливое великолепие снежного утра нарушала предновогодняя кутерьма.
В преддверии праздника весь охотничий посёлок, как водится, крепко «сидел на стакане». Над входом в больницу сквозь намёрзший на лампочки иней тускло мерцал плакат «С Новым, 1977 годом!».
Подвыпившая акушерка, накрывая Ольгу одеялом, рассмеялась:
– Ну и угораздило же тебя в ночь под Новый год родить! Девка у тебя хорошая. Ты спи теперь, а мы догуливать пошли.
Вскоре Ольга проснулась от жгущей тяжести внизу живота. Попробовала встать, но не было сил. Кровь рубиновыми бусинками капала на пол. Ольга закричала, позвала на помощь – да слышны были только ружейные выстрелы за окном в честь праздника и трубивший басом ветер. А горячая вьюга, пылая в Ольгином теле, уносила её далеко-далеко…
После похорон жены Григорий подался на песцовую ферму к матери, доброй, немногословной Степаниде; там же жила его сестра Надя. До посёлка Григорий добрался на попутке. Скрепя унтами по утоптанной между сугробов дорожке и разбавляя морозный воздух крепким перегаром, он заботливо прижимал к груди лёгкую ношу – завёрнутую в одеяло новорождённую дочку.
Мутный взгляд Григория зацепился за сахарные глыбы снега. Здесь они с Ольгой дурачились, лепили забавные фигурки, а потом согревали друг друга поцелуями. Теперь эти горькие воспоминания тонули в белизне ажурного мира зимы. Задубевшие на морозе деревья, печально склоняя ветки, расступались перед тропинкой к дому.
Слизав с замёрзших усов иней, Григорий толкнул бревенчатую дверь. Она вела в узкие сени. Мужчина тяжело вдохнул привычный запах квашеной капусты и кислого молока.
Войдя в избу, протянул матери свёрток:
– На вот, это теперь наше. Хотел пострелять всех фельшаров в больнице. Да что толку! Ольгу этим не вернуть… A девку растить надо, она вся в нас – семёновская.
Перекрестившись, Степанида приняла внучку.
– Как назвал-то?
– Катериной, – прохрипел Григорий.
– Царское имя, – всхлипнула Степанида. – Чего ж, царевна, тут теперь твой дом, а это сестра твоя, Светочка, – продолжила она, показывая малютке годовалую Надину дочку.
В далёкой таёжной глубинке проходило сиротское детство «лесной царевны». Работники песцовой фермы жили в посёлке из нескольких домов. Зимой их тесный мир уныло рисовался лишь чёрно-белыми линиями да округлостями снежных куч, матовых, как серый жемчуг. К весне пейзаж теплел голубыми, жёлтыми, а после зелёными красками. Добротно сбитые из толстых брёвен дома пахли внутри таёжными ягодами, острыми соленьями, сдобой и бражкой – домашним вином. В каждом дворе возвышался сарай для мелкого скота и уютная банька. Песцов держали в огромных клетках, где они, сытно накормленные, нагуливали серебристый нежный мех.
Маленькая Катя помогала бабе Стёпе и, несмотря на тяжёлый труд и мерзкий звериный дух фермы, научилась примечать и наслаждаться лесными радостями. Всё в этом царстве ей было знакомо: и радужно-хрустальный блеск таёжной зимы со звенящими от мороза ветвями сосен и кедров, и густо-зелёное чудо сибирского лета с дурманящим ароматом смолы и пушистого мха.
Юркая, гибкая, с нежным румянцем Катя напоминала цветок таёжного багульника, что вроде мал и неприметен, но так хорош своей необыкновенностью.
Когда ей исполнилось двенадцать, отец, ввалившись с мороза в избу, заявил:
– Катька! Завтра со мной на охоту пойдёшь.
– Не пушшу! Девка она и мала ишо! – запричитала Степанида.
– Ты, мать, муру-то не пори, – оборвал её Григорий. – Я с охотниками с восьмилетства. К этому занятию с детства привычка нужна. А что девка – да то лучше: у баб прицел острее. Ольга-то моя, царство ей небесное, соболя в глаз била.
Ледяным утром впервые почувствовала Катя вкус добычи. Ружьё казалось неподъёмным, от него пахло по-чужому пугающе. Отец поучал, как с ним обращаться:
– Ты на ружо-то не дави – оно лёгкость любит, а мушку на вздохе бери. На выдохе тело завсегда слабеет – рука может дрогнуть. Зверью в морду целься, а лучше – в глаз, чтоб мех не спортить.
Заметив на сосне белку, отец сделал знак молчать. Потом прижался жёсткой щетиной к дочкиной щеке, поправил ствол и, положив Катин палец на курок, выстрелил. Приклад ударил в плечо. От хлопка гулко застучало сердце, и Катька увидела кувыркающуюся по веткам белку.
– Ну вот и почин, доча! – усмехнулся Григорий. – Беги! Принеси!
Дрожа всем телом, еле переступая одеревеневшими ногами, несла Катя окровавленную тушку белки. У девочки горчило во рту, а щёки покрылись прозрачной коркой застывших слёз.
– Так, – вздохнул отец, – ты эти бабские штуки забудь! – и громко продолжил: – На охоте жалостей нету! Наше дело от мучений зверьё избавить так, чтоб сразу… Потому выстрел метким должон быть, а добивать подранков – дело тошное, – Григорий шершавой ладонью вытер слёзы с лица дочки. – То зверьё, что охотникам на мушку попадается, оно ленивое или дурное. Умный зверь затылком всё чует, этого не возьмёшь.
Отец достал скомканный платок, протянул Катьке:
– На вот, не реви. На охоте ведь… кто кого переумничит. А соболь вот – зверь норовистый, потому и в неволе не живёт. Не то что песцы вонючие в клетках на нашей ферме, их хоть голыми руками бери. Многое таёжное зверьё поумней человека будет, и охотнику ихние повадки знать надо, да и всякие лесные причуды. Тайга тебя научит!
И тайга учила. Знойным летом она, как суровый учитель, хлестала Катькины щёки колючими ветками, когда та, пробираясь в зарослях, выслеживала зверя. В студёные зимние дни тайга заставляла пританцовывать в толстых валенках и вприпрыжку добираться до тайной охотничьей сторожки, где была спрятана от назойливых инспекторов пушнина и разная охотничья утварь.
Про сторожку эту знали только свои. Отец её в овраге выкопал, а внутри выложил брёвнами. И тепло, и сухо. На полках – сухари, консервы, травы и корни, бабой Стёпой собранные, такие, что силу дают. Бабка, когда травы собирала, и Катю учила, к чему какой корень и травка.
– Это вот красный корень, – показывала она внучке. – Пожуёшь – и целый день без воды и хлеба по тайге бегать можно. Никакая хворь не возьмёт. Пижма, подорожник… Это лист брусничный от простуды. А это, – Степанида вздохнула, – бешень-трава.
– Как это «бешень»? – удивлённо вскинула глаза Катя.
– А потому как мужик, если выпьет отвар той травы, заклинаниями наговорённый, то бесам отдастся, – прошептала баба Стёпа. – Тогда мужик словно бешеный, сил не имеет устоять от бабьего тела и полюбит без ума ту, что рядом с ним окажется. Мала ты ишо… Ну а как придёт твоё время – лучше мужику душой приглянуться, без бесовской помощи, потому как за колдовство всегда расплата есть!
3. Сёстры
Катя смотрела на фотографии мамы и верила, что та всегда рядом со своей заботой и нежностью. Девочка замечала материнские черты в самых светлых ликах природы: на пёстрых от цветущего багульника сопках, в сладостных утренних лучах или в мягких тенях сосен на свежем снегу.
Единственной подругой Катя считала Светочку, двоюродную сестру. К ней она тянулась всей душой. Особенно девчонки сблизились, когда Катя, окончив в райцентре начальную школу, поехала учиться в школу-интернат, в Усолье-Сибирское. Там девчонки несколько лет прожили в одной комнате. Катя хорошо ладила и с учителями, и с одноклассниками. В ней открылась завидная черта – умение замечать и усваивать лучшие качества окружающих.
В день Катиного приезда Света, влетев с улицы, застала сестру за разборкой маленького чемодана с вещами. Старое габардиновое пальто ладно сидело на Светкиной плотной фигуре. И вся она, сияющая и громкая, мгновенно наполнила задором убогую, с грубо побеленными стенами интернатскую комнату.
– Ой, что это? – весело зазвенела Света, показывая на картинки. Катя, разглаживая узкой рукой смятый глянец, старательно развешивала на стенах журнальные вырезки с видами диковинных пышных дворцов.
– Это Париж. Это – Эйфелева башня, тут – собор Парижской Богоматери, Монмартр. Я про всё это читала и книжки привезла: «Три мушкетёра», «Отверженные», «Королева Марго». Так интересно! И всё про Францию! – Катя взглянула в румяное лицо сестры. – Я ведь порой до рассвета читаю, а иногда так с книжкой и засну.
– Да ты серьёзная! Как взрослая! – вздохнула Светка. – А мне вот легенды нравятся. Про разных богов. Как сказки.
Хохотушка и непоседа, Света всегда была в центре внимания, пела и танцевала. Неусидчивая, она с трудом окончила восьмилетку и тут же побежала на курсы барменов и официантов.
– Кать, ты башковитая, – внушала она сестре. – В институт тебе надо. Нашу родственницу Нелю помнишь? Молоденькая такая. К бабе Стёпе приезжала. Она в Иркутске на геолога учится. Скоро заканчивает. Тебе уже семнадцатый год, попросись к ним подработать на лето. Среди умных людей покрутишься, подскажут чего.
4. Бешень-трава
И действительно, летом Катю взяли в геологическую экспедицию. Встретив приехавшую племянницу, Неля по-дружески распорядилась: «Со мной в палатке будешь. Она трёхместная, большая. Жених мой скоро приедет, мы с ним на одном факультете. Пока вместе не живём: у меня родители строгие. Свадьба в октябре. Тогда и начнём новую жизнь».
Геологические будни оказались Катьке привычны: тайга, скромная пища, из развлечений только рассказы о приключениях в походах, шутки да песни у костра. Охотница с позволения начальника партии, на радость геологам, постреливала из его ружья дичь, угощая всех свежей зайчатиной и куропатками. А вечерами, наполняя тайгу гулким звоном, Катя развлекала народ меткой стрельбой по банкам.
Она не ожидала, что скоро услышит иной звон во всём своём теле: пение новых чувств. Её, таёжную царевну, знающую все шорохи и дыхания лесные, осторожную и ловкую, ждало неизведанное…
Коля приехал под вечер на попутке. Неля с радостным криком бросилась ему на шею. Она каждому представила своего жениха с особой гордостью. Катя приблизилась к высокому темноволосому парню и вздрогнула от нахлынувшего смятения. Язык у девушки вдруг занемел, как в тот день, когда они со Светкой объелись ягод черёмухи.
Катя не понимала, как справиться с ползущей по телу горячей волной, когда Колин взгляд останавливался на её лице. Не могла Катя победить в себе и гнетущее беспокойство, мучительно сознавая, что этот парень уже обручён с её родственницей.
Алый зной сибирского лета оранжевыми брызгами разрисовал вечернее небо. Когда оно засеребрилось звёздами, сидевшие возле костра геологи вспомнили о примете: с падающей звездой загадывать желание. Вскоре все разошлись по палаткам, а Катя вдруг оказалась наедине с Колей. В его чёрных глазах танцевали блики огня, и фиолетовый небосвод, зацепившись за макушки кедров, сыпал в костёр звездную пыль.
– А у тебя желания-то есть? Мечты? Ты не говори, если секрет. – Коля перевернул догоравшие поленья.
Девушка подёрнула плечами:
– В Париж поехать. Я про этот город много читала. Хочу сама увидеть, так ли там всё, как в книгах написано.
Коля с улыбкой прошёлся по струнам гитары, напевая одну из любимых геологами песен:
– Ты что, мой друг, свистишь? Мешает жить Париж? Ты посмотри, вокруг тебя тайга, ла-ла-ла-ла… – прервавшись, сухо заметил: – В Париж? Желание хорошее. Только девчонки, ровесницы твои, другие мечты лелеют: о любви и за хорошего парня замуж выйти.
Ночь перемигивалась звёздами с редкими лесными светлячками. В траве шуршала засыпающая таёжная жизнь. От разомлевших на летнем зное елей и кедров сочился хвойный аромат, он мешался с запахами травы и свежестью ручья. Ветер играл этим букетом запахов, то унося его в небо, а то кидая в огнь костра. Катя наслаждалась этой волшебной ночной декорацией, а её брошенные украдкой взгляды осторожно ласкали Колино загорелое лицо.
– Тот, кого люблю, жениться собирается, поэтому в мечтах только Париж и остался, – вдруг неожиданно для себя выпалила Катя и, неловко оборвав разговор, направилась к палатке.
Но особой болью отозвалась та ночь, когда её разбудил тихий скрип раскладушки:
– Да спит она! Иди сюда, милый! – в слух прокрался Нелин приглушённый голос. – Тесно тут в спальнике, давай на пол.
Катин сон прервал звук возни и долгих поцелуев. Приподняв голову, в мутном свете луны, падающем сквозь узкое окно палатки, Катя увидела очертания совершенно раздетой парочки. Они лежали на войлоке между раскладушками. Когда глаза привыкли к темноте, девушка разглядела сплетённые в объятиях руки и раскинутые ноги. Послышалось то замирающее, а то шумно стонущее дыхание. Вскоре палатка наполнилась запахом разгорячённых тел и каким-то странным волнующим сладковато-кислым ароматом.
Катька лежала, как скованная, пылая от непонятного возбуждения. Колины белеющие в сумраке голые плечи были так близко, что она едва сдерживала желание их коснуться.
Остаток ночи Катя металась как в бреду, а на рассвете бросилась подальше в лес, чтобы вволю наплакаться. Когда она, рыдая, зарылась в густую траву, внезапно кудрявый лист колюче уткнулся в её щёку. «Бешень-трава! – всхлипнула Катя, вспомнив рассказы бабы Стёпы. – Расти-расти, травка! – шептала она. – В конце лета я тебя сорву. Ты будешь мой, Коленька! Хоть с бесами – да будешь, иначе не вынести мне этой боли!»
Отгорело сибирское лето, отшумела и осень. Девчонки приехали на зимние каникулы. Из окна дома бабы Стёпы запорошенный двор, баня и сараи сверкали, будто покрытые белым лаком. Живой хрустящий воздух зимы принёс новые заботы жирного и пушистого охотничьего сезона. Но каждый вечер, засыпая, Катя вспоминала летние вечера и любимого. Это наваждение ловким зверем всюду ступало по её следу.
Однажды январским утром, блестевшим морозной пылью, в избу ввалилась Светка с посылкой в руках.
– Вoт! Неля с Колей из Иркутска прислали. С Новым годом поздравляют. Конфеты, да и всякое тут… И письмо тоже. Неля в командировку в Новосибирск уезжает, на две недели… А он…
Слушая болтовню сестры, Катя вспыхнула дерзкой мыслью: «Один он, один в городе! Моё время настало!»
– Я в Иркутск собираюсь, пока каникулы. Узнаю всё про институт. Может, книги какие куплю, – бросила она, будто невзначай. – Бабуль, хочешь чего-нибудь передать?
– Да привет передай, Господь с тобой – прокряхтела Степанида.
Вечером, взглянув на небо, Катя обомлела: полная луна заглядывала в окно жёлтым боком огромного шара. Вот она, судьба! Самое время сейчас… Достав спрятанный мешочек с сухой травой, Катя быстро вскипятила воду. Пузырьки варева танцевали в такт её шёпоту: «Нигде бы ты меня не забывал, Коленька, в еде не заедал, в питье не запивал, во сне не засыпал…»
В сонном доме лишь молчаливые стены кухни слышали это таинственное бормотание. Катя вдохнула приторный аромат таинственного зелья. Губы её высохли, и в груди растеклась горячая истома.
5. Коля
– О! Катюха! Какими судьбами?
Коля с широкой улыбкой открыл дверь.
– А Неля-то в Новосибирске! Ну я найду, чем тебя угостить. Проходи.
– Я вот приехала в институт зайти, посмотреть, что и как, – пролепетала Катя, входя в тесную прихожую.
Окунаясь в обстановку жизни своего любимого, она оглядывала двухкомнатную хрущёвку. Всё здесь ей казалось праздничным, освящённым его прикосновениями. И скромный коричневый диван, и торшер, и полки с книгами, и в беспорядке лежащие образцы минералов. В коридоре, снимая пальто, Катя взяла с вешалки Колин шарф и прижала его к лицу, до головокружения упиваясь волнующим запахом.
Они накрыли стол вдвоём, так естественно болтая и расставляя посуду. Катя не могла избавиться от навязчивой мысли, как было бы здорово вот так видеться с ним каждый вечер, окунаясь в тёплое счастье, говорить, просто чувствовать его рядом. Поставив на стол привезённые таёжные соленья, Катя открыла плоскую бутылку.
– А это что?
Коля раскладывал еду по тарелкам.
– Это? – Катька замялась. – Да… баба Стёпа настойку приготовила. Зимой она хороша. Попробуй вот.
Она налила полный стакан, и Коля выпил, похвалив удивительный вкус.
Засиделись допоздна. Николай рассказывал весёлые истории о прошлой студенческой жизни. А внутри у Кати вибрировал томный звук, похожий на протяжный гул, который она девочкой услышала в тайге. Тогда, вздрогнув от трубного пения сохатого, юная охотница с удивлением взглянула на отца. «Это он самку кличет. Тоскует. Гон у них…» – кивнул Григорий.
– Я тебе в спальне постелю, а сам тут, в зале.
Коля разложил диван и пожелал спокойной ночи.
Катька разделась, ощупывая своё пылающее тело и шепча, как в бреду: «Забыть, забыть! Он со мной как с ребёнком! А ведь всего на шесть лет старше. Вырвать его надо из сердца, как колючий сорняк!»
Она долго смотрела в темноту. Часы на стене показали полночь. Терзаемая и желанием, и страхом, она решительно встала: «Уеду! Прямо сейчас уйду. Вокзал тут рядом. Первая электричка в два ночи. Не могу больше терпеть. Только вот гляну на него одним глазком на прощанье». Катя накинула халат и тихо прошла в комнату.
Слушая ровное дыхание любимого, она присела рядом и долго глядела в полумраке на его лицо. Неожиданно Колины ресницы дрогнули, и он, сонно приподнявшись, уронил руку на её колени. Растерянная, оцепеневшая, Катя следила за этими движениями, молча гладя его жёсткие волосы.
– Катюша… – он прижался ближе, увлекая её на постель.
Вьюга ледяными пальцами стучала в окно, уличный фонарь, скрипя, моргал тревожным мерцанием. Под эту музыку ночи душа «таёжной царевны» вырывалась из груди и возвращалась в новое, повзрослевшее тело. Так Катя, привыкшая видеть дикое совокупление животных, встретилась с человеческой страстью.
Колёса электрички глухо стучали по замёрзшим рельсам. Катя через подёрнутое инеем окно вглядывалась в проплывающие пейзажи. Она, упиваясь сладким страданием, видела в морозных искрах весь минувший день: утреннее пробуждение рядом с любимым, его смятение, бесконечные извинения и терзания укорами совести, когда он, пряча глаза, скомкал испачканную простыню; их прощание на вокзале, оборванное торопливым поцелуем и робким объяснением:
– Прости, Катенька. Не знаю, что на меня нашло. Как не в себе был!
И её ответное:
– Не кори себя, Коля! Я тебя с первой минуты полюбила. Вины твоей нет, и тайна эта только наша. Никто не узнает.
Заколдованная бешень-травой ночь, жаркая, липкая, стонущая, теперь постоянно жила с Катей. И вместе с той ночью к ней пришло что-то новое. Чувство притуплённого стыда и азарта, как у карманной воровки, впервые заполучившей чужое и желанное. И ещё – всё затмевающая любовь, от которой она уже не страдала, а наслаждалась, как чем-то своим, естественным. Так любуются отражением в зеркале повзрослевшие девочки, восхищаясь мягкой выпуклостью линий тела, ранее плоского и угловатого и так они радуются своему превращению.
6. Перемены
Будни на ферме шли своим чередом. Степанида хлопотала по хозяйству, стараясь ухватить короткое сибирское лето за горячий солнечный бок и прислонить к нему овощные грядки. С утра, насыпав зерна курам, баба Стёпа бежала в огород. Маленькая, круглая, она всё успевала и умела бурно радоваться приезду внучек. Катя со Светой бывали на ферме почти каждые выходные, помогали бабушке и наслаждались её стряпнёй.
Света теперь работала в элитном баре. Задорная и разговорчивая, она быстро обзавелась нужными связями и частенько баловала своих деликатесами: французскими сырами, десертами, заморскими фруктами – редкими в сибирской глубинке.
– Ты, Катька, поправилась на бабкиных-то разносолах. Я тебе, пожалуй, свои юбки отдам, – засмеялась Света, глядя на налившуюся грудь и раздавшиеся бёдра сестры.
– А я вижу – с лица что-то сошла, вид замученный, – заметила Надя, Светкина мама. – Выпускные экзамены на днях. Не заболела ли?
В Усолье Света снимала комнату в частном доме. Простая обстановка: кровать, сервант, да стол со стульями. Стены украшены фотокопиями шедевров по мифическим сюжетам. Венеры и Дианы, праздно белевшие наготой, манящими формами напоминали саму Светку.
Лучистое утро пахло цветами шиповника. Света радостно встретила сестру на пороге и провела её на кухню завтракать. На столе, покрытом цветной скатертью, фарфорово сверкали блюда, щедро наполненные гладкими ломтиками сёмги, копчёным мясом и сервелатом. Молодая картошка с тонкой кожурой ароматно дымилась разомлевшим укропом.