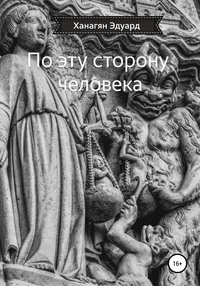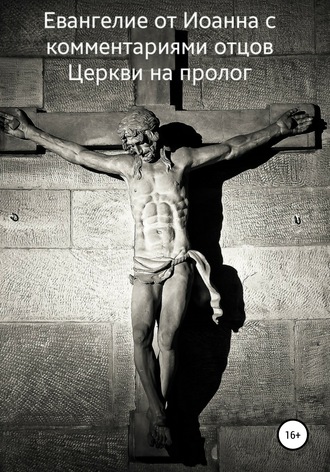 полная версия
полная версияЕвангелие от Иоанна с комментариями отцов Церкви на пролог
Евфимий Зигабен
Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о Свете,
«В этом месте под Светом разумеется Иисус Христос по вышеприведенной причине. Свидетельствовал Иоанн о Божестве Его, как это мы видим далее; но так как Иисус Христос не нуждался в его свидетельстве, то присоединяется и причина этого свидетельства.»
Да вси веру имут ему.
«Подобно тому как Иисус Христос воспринял плоть для того, чтобы явившись в одном только Божестве не потерять всех, так точно Он пользовался свидетельством для того, чтобы современники Иоанна, слыша родственный голос, легче уверовали в Того, о Котором свидетельствовалось: все это было устроено для спасения людей. Итак, Иоанн свидетельствовал, чтобы все уверовали; а уверовали не все, потому что вера является не по насилию, а по свободной воле.»
Лопухин А. П
Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы все уверовали чрез него.
«Цель выступления Иоанна состояла в том, чтобы быть свидетелем и именно «свидетельствовать о Свете,» т. е. о Логосе или Христе (ср. стих 5), убеждать всех пойти к этому Свету, как к действительному свету жизни. Через его свидетельство все – и иудеи, и язычники – должны были уверовать во Христа как в Спасителя мира (ср. Ин.20:31).»
Святитель Кирилл Александрийский
Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о Свете.
«Это «сей» заключает в себе выразительное указание на доблесть и славу лица; ибо «он от Бога», говорит, «послан», – он, справедливо поразивший всю Иудею святостью жизни и чрезвычайным подвижничеством, предвозвещенный гласом святых пророков и у Исаии названный «гласом вопиющаго в пустыне» (Ис.40:3), а у блаженного Давида: «светильником Христу предуготованным» (Пс.131:17). «Сей прииде во свидетельство, да свидетельствует о Свете.» И здесь Светом называет Бога Слово и показывает, что один есть Свет и что этот самый Свет собственно только и существует, вместе с Коим нет ничего другого, что имело бы силу освещать и не нуждалось бы в свете. Итак, иноплеменно и, так сказать, иноприродно по отношению к твари Божие Слово, как скоро действительно и истинно Оно есть Свет в собственном смысле, тварь же причастна Свету. А кто не стоит уже в ряду тварей и потому мыслится иноприродным, каким образом Он мог бы быть тварным, а не наоборот – каким, наконец, образом Он мог бы не быть в пределах Божества и не иметь природы Родителя?»
8. Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете
8. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете
Святитель Иоанн Златоуст
См. 1.6
Блаженный Феофилакт Болгарский
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
«Так как часто случается, что свидетель бывает выше того, о ком свидетельствует, то чтобы ты не подумал, что и Иоанн, свидетельствующий о Христе, был выше Его, евангелист в опровержение этого лукавого помысла говорит: «он не был свет». Но, может быть, кто-нибудь скажет: ужели мы не можем называть светом ни Иоанна, ни иного кого из святых? Светом мы можем назвать каждого из святых, но Светом, в данном значении, не можем назвать. Например, если кто тебе скажет: Иоанн есть ли свет? – согласись. Если же спросит так: ужели Иоанн есть оный Свет – скажи: нет. Ибо сам он не есть свет в собственном смысле, но свет по причастию, имеющий сияние от истинного света.»
Евфимий Зигабен
Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете.
«Еще объясняет причину посольства: он пришел не для того, чтобы светить, так как он не был свет, но для того, чтобы свидетельствовать о Свете. Говорит это евангелист и для того, чтобы кто-нибудь не подумал, что свидетельствующий больше и достовернее Того, о Ком он свидетельствует, как это часто бывает. А так как свидетельство Иоанна было недавнее, то чтобы не возникло подобное же предположение и относительно Того, о Ком он свидетельствовал, евангелист говорит: см. следующий стих»
Лопухин А. П
Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о Свете.
«Так как многие смотрели на Иоанна как на Христа (ср. стих 20), то евангелист с особенным ударением говорит еще раз, что Иоанн не был «светом», т. е. Христом, или Мессией, а пришел только свидетельствовать о Свете, или Мессии.»
Святитель Кирилл Александрийский
Не бе той свет, но да свидетельствует о Свете.
«Предпочетши жизни в городах пребывание в пустыне, явив изумительную крепость в подвижничестве и дойдя до самой вершины праведности в людях, Креститель вполне справедливо возбуждал удивление к себе и некоторыми считался даже за Самого Христа. Так, вожди иудейских сонмищ, пришедши к такой догадке благодаря присущим ему преимуществам по добродетели, посылают некоторых к нему, повелев спросить его, не Христос ли он (Ин.1:19–25). Итак, не ведая о том, что у многих пустословилось о нем, блаженный Евангелист почитает необходимым присоединить: «не бе той свет», дабы и заблуждение искоренить относительно сего, и придать опять некую достоверность посланному от Бога на свидетельство. В самом деле, разве не весьма превознесен, разве не досточуден во всех отношениях тот, кто отличался праведностью, так что изображал Самого Христа и по причине изрядной красоты благоговения почитался наконец даже за самый свет? Итак, «не был», говорит, «он свет», но во свидетельство «о Свете» послан. Говоря же «Свет» – τὸ ϑῶς, с приложением члена, ясно этим указывает на Единый Истинный Свет. А что светом справедливо может быть называем и блаженный Креститель или даже каждый из святых, этого мы не будем отрицать, по причине сказанного о них Спасителем нашим: «вы есте свет мира» (Мф.5:14). Сказано также и о святом Крестителе: «уготовах светильник Христу Моему» (Пс.131:17), и: «он бе светильник горя и светя: вы же восхотесте в час возрадоватися во свет его» (Ин.5:35). Но хотя святые суть свет и Креститель есть светильник, мы не должны, однако же, опускать из внимания благодать и подаяние им от Света. Ведь свет – не свой собственный в светильнике и освещение также – не свое во святых, но осиянием истины оказываются блистающими и светящимися и «светила» суть «в мире, слово жизни содержаще» (Флп.2:15–16). Но какая же жизнь, «коей слово содержа», они назывались светом («светилами»), кроме Самого Единородного, говорящего: «Аз есмь жизнь» (Ин.14:6)? Итак, один в действительности есть истинный Свет, освещающий, не освещаемый, – а если, вследствие причастия к этому одному (Свету), и что-либо другое называется светом, то должно быть мыслимо (таковым только) по подражанию Тому (Единородному).»
9. Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир
9. Бе Свет истинный, Иже просвещает всякого человека, грядущаго в мир
Святитель Иоанн Златоуст
«1. Ничто не препятствует нам и сегодня снова коснуться этих слов, потому что в прошедший раз изложение догматов не дозволило нам проследить вполне все прочитанное. Где же те, которые говорят, что Сын не есть истинный Бог? Здесь Он называется истинным Светом, а в другом месте самою Истиною и самою Жизнию. Впрочем, эти последние слова мы яснее исследуем, когда дойдем до них; а теперь надобно вашей любви сказать о свете. Если он просвещает всякаго человека, грядущаго в мир, то отчего столько людей остаются не просвещенными? Оттого, конечно, что не все познали веру Христову. Как же он просвещает всякаго человека? Смотря по приемлемости каждого. Если некоторые, по своей воле смежив очи ума, не хотят принять лучей этого света, то омрачение их происходит не от естества самого света, а от злобы этих людей, добровольно лишающих себя дара. Благодать изливается на всех; она не чужда ни иудея, ни эллина, ни варвара, ни скифа, ни свободного, ни раба, ни мужа, ни жены, ни старца, ни юноши; ко всем одинаково близка и всех равночестно призывает. Но те, которые не хотят воспользоваться этим даром, те, по справедливости, самим себе должны приписывать такое ослепление. Если тогда, как вход открыт для всех и никто не преграждает его, некоторые по произвольному ожесточению остаются вне, то они гибнут не от чего-либо другого, а от собственной порочности. В мире бе (ст. 10), – но не как современный миру; нет. Поэтому (евангелист) и присовокупляет: и мир Тем бысть (ст. 10). Чрез это он опять возводит тебя к предвечному бытию Единородного. Кто слышит, что все есть создание Его, тот хотя бы был вовсе бесчувствен, хотя бы был враг и противник славы Божией, во всяком случае волею или неволею принужден будет признать, что Творец существует прежде творений. Потому-то я всегда и дивлюсь безумию Павла Самосатского, – как он дерзал противоречить столь очевидной истине и сам себя добровольно низринул в бездну. Он заблуждался не по неведению, а очень хорошо понимая дело, подвергся одной участи с иудеями. Как иудеи, имея в виду суд людей, оставили здравую веру и, хотя знали, что Иисус есть Единородный Сын Божий, но, ради своих начальников, не исповедовали, чтобы не быть изгнанными из синагоги, так и Павел Самосатский, как говорят, из угождения какой-то женщине, отрекся от своего спасения. Подлинно, страшно, страшно преобладание тщеславия; оно может ослепить очи и мудрых людей, если они не станут бодрствовать. Если это может сделать мздоимство, тем больше – страсть тщеславия, гораздо сильнейшая. Поэтому-то и говорил Христос иудеям: како вы можете веровати, славу друг от друга приемлюще, и славы, яже от Единаго Бога, не ищете? (Ин. 5, 44). И мир Его не позна (1, 10). Евангелист называет здесь миром множество людей растленных, преданных земным делам, толпу, мятежный и бессмысленный народ. Но други Божии и все дивные мужи познавали Христа еще прежде Его явления во плоти. Именно о праотце Сам Христос сказал: Авраам отец ваш рад бы был, дабы видел день Мой: и виде и возрадовася (Ин. 8, 56). И о Давиде в обличение иудеев Он говорил: како убо Давид духом Господа Его нарицает, глаголя: рече Господь Господеви моему: седи одесную Мене (Мф. 22, 43–44). Много раз, препираясь с ними, Он упоминает и о Моисее (Ин. 5, 46); а о прочих Пророках – Апостол. А что все Пророки, начиная от Самуила, познавали Христа и задолго предвозвещали пришествие Его, об этом говорит апостол Петр: и вси пророцы, от Самуила и иже по сих, елицы глаголаша, такожде предвозвестиша дни сия (Деян. 3, 24). Иакову и отцу его, как и деду его, являлся Сам Бог, беседовал с ними, обещая даровать им многие и великие блага, что и исполнилось на самом деле. Как же, скажешь ты, Он Сам говорил: мнози пророцы восхотеша видети, яже вы видите, и не видеша: и слышати, яже слышите, и не слышаша (Лк. 10, 24)? Как же они знали Его? Конечно знали; и я попытаюсь доказать это из тех же самых слов, из которых некоторые заключают, будто бы Пророки не имели познания об Иисусе Христе. Он говорит: мнози восхотеша видети, яже вы видите; значит, они знали, что Он придет к людям и совершит дела, которые и действительно совершил. А если бы не знали этого, то и не восхотели бы видеть, потому что никто не может желать того, чего совсем не знает. Следовательно, они знали Сына Божия, знали и то, что Он придет к людям. Но что ж это такое, чего они не видели и не слышали? То, что ныне вы видите и слышите. Пророки, хотя слышали глас Его и Самого Его видели, однако ж – не во плоти, не в том виде, в каком Он обращался с людьми и открыто беседовал с ними. На это и Сам Он ясно указывает, – говорит не просто: они желали Меня видеть, – а как? Желали видеть, что вы видите; не сказал также: желали Меня слышать, но: что вы слышите. Таким образом, хотя они и не видели его явления во плоти, однако ж знали, что оно будет, и его желали. Они веровали во Христа, хотя и не видели Его во плоти. Если же язычники, думая укорить нас, спросят: что же делал Христос прежде, когда еще не промышлял о роде человеческом? почему Он, оставив нас на столь долгое время без попечения, уже в последнее время пришел устроить наше спасение? – мы скажем, что Он еще и прежде того времени был в мире, предустроял дела и ведом был всем достойным. А если вы скажете, что Он был неведом, потому что не все тогда знали Его, а только люди избранные и добродетельные, то на таком основании вы, пожалуй, допустите, что Он и в настоящее время не имеет поклонения от людей, потому что и ныне еще не все знают Его. Но как в настоящее время никто не может отрицать, что есть люди, знающие Его, – потому только, что есть люди, не знающие Его, – так нельзя сомневаться в том и по отношению к прежним временам, потому что многие или, лучше сказать, все избранные и дивные мужи знали Его.
2. Но если бы кто спросил: почему тогда не все веровали в Него и не все почитали Его, а только одни праведные? – то спрошу и я: отчего и в настоящее время не все знают Его? Да что говорить о Христе? Отчего как прежде, так и ныне не все знают и Отца Его? Некоторые говорят, что все (в мире) носится самодвижно; другие попечение о всем приписывают демонам; а есть и такие, которые, кроме истинного Бога, измыслили для себя какого-то другого; из них иные богохульствуют, утверждая, будто есть какая-то противная Богу сила, и еще думают, что законы Божии принадлежат какому-то злому духу. Что же? Ужели потому, что некоторые отвергают Бога, и мы будем говорить то же или согласимся, что Он зол, так как некоторые высказывают и это богохульство? Прочь это безрассудство и это крайнее безумие! Если бы мы стали поверять догматы судом этих безумных людей, то и нас самих ничто не удержало бы от крайнего безумия. Конечно, никто не скажет, что солнце вредно для глаз, потому что есть больные глазами; напротив, оно светоносно по суду людей здоровых. Никто также не скажет, что мед горек, потому что он кажется таким на вкус больных. Итак, не по примеру ли больных некоторые утверждают, что или нет Бога, или что Он зол, что иногда Он промышляет, а иногда вовсе не делает этого? И кто скажет, что они люди здоровые? Напротив, это – люди не исступленные ли, безумные и крайне помешанные? Мир Его не позна (Ин. 1, 10), сказано: однако ж те, которых недостоин был мир, познали Его. Сказав же о непознавших Его, евангелист вкратце излагает и причину этого неведения; говорит не просто: никто не познал Его, но: мир Его не позна, то есть люди, преданные одному миру и только о мирском помышляющие. Так обыкновенно называл их и Христос, как, например, когда говорил: Отче праведный, и мир Тебе не позна (Ин. 17, 25). Но мир, как мы сказали, не познал не только Сына, но и Отца, потому что ничто не приводит в такое расстройство рассудок, как привязанность к предметам временным. Зная это, удаляйтесь, сколько возможно, от мира и воздерживайтесь от дел плотских; от них происходит потеря не в случайных, а в самых высших благах. Человек, слишком занятый делами настоящей жизни, не может надлежащим образом усвоить предметов небесных; но по необходимости, заботясь о тех, лишается этих. Не можете, сказано, Богу работати и мамоне (Лк. 16, 13). Последуя одному, по необходимости надобно оставить другого. И об этом гласит самый опыт. Те, которые смеются над страстию к богатству, те-то наиболее и любят Бога, как должно. Напротив, те, которые высоко ценят богатство как первое благо, слабейшую имеют любовь к Богу. Душа, будучи однажды пленена любостяжанием, уже не может легко и удобно удерживаться, чтобы не сделать или не сказать чего-либо такого, что прогневляет Бога, так как она делается уже рабою другого господина, и притом такого, который повелевает ей все противное Богу.
Итак, воспряните и пробудитесь и, размыслив о том, какого Господина мы рабы, возлюбим только Его власть; возрыдаем и оплачем прежнее время, в которое мы работали мамоне; свергнем однажды навсегда ее тяжкое, несносное иго и будем постоянно носить иго Христово, легкое и отрадное; Христос же не повелевает ничего такого, что внушает мамона. Она повелевает быть врагами всем; а Христос – напротив: миловать и любить. Она, призвав нас к праху и пыли (таково – золото), не дает нисколько, даже ночью, вздохнуть свободно; а Христос освобождает нас от этой излишней и неразумной заботы, повелевает собрать сокровища на небесах, не неправдою в отношении к другим, а собственною правдою. Мамона, после стольких трудов и скорбей, не может даже остаться с нами, когда мы там будем терпеть наказания и злострадать за исполнение ее внушений; она даже увеличит для нас пламя; а Христос, даже когда повелевает дать ближнему чашу холодной воды, не попустит нас и за то лишиться награды и возмездия, но воздаст с великою щедростию. Итак, не крайне ли безрассудно – пренебрегать столь кроткое и столь великими благами изобилующее владычество и работать властителю неблагодарному и непризнательному, который ни здесь, ни там не может никакой пользы принести последующим и повинующимся ему? Но не то одно худо, и не то одно вредно, что он не может избавить преданных казни, а и то еще, что он, как я сказал, подвергает бесчисленному множеству зол людей, покоряющихся ему. Весьма многие из тех, которые будут наказаны, будут терпеть наказание именно за то, что служили деньгам, любили золото и не помогали нуждающимся. Чтобы не терпеть и нам того же, будем расточать (свои сокровища), отдавая их бедным; освобождать свою душу и от здешних зловредных попечений, и от будущих, за то уготованных, мучений. Приготовим себе оправдание на небесах; вместо стяжаний земных соберем сокровища неистощаемые, сокровища, которые могут сопутствовать нам на небо, могут защитить нас в опасности и умилостивить тогда Судию. Да будет же ко всем нам Его благоволение и ныне, и в тот день, и да насладимся великим дерзновением благ, какие уготованы на небесах любящим Его, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь»
Блаженный Феофилакт Болгарский
Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
«Евангелист намерен говорить о Домостроительстве Единородного во плоти, что Он пришел к Своим, что Он стал плотию. Итак, чтобы кто-нибудь не подумал, что Он не существовал прежде Воплощения, для сего возводит мысль к бытию прежде всякого начала и говорит, что Свет истинный был и прежде Воплощения. Этим он ниспровергает и ересь Фотина, и Павла Самосатского, утверждавших, что Единородный тогда получил бытие, когда родился от Девы, а прежде сего не существовал. И ты, арианин, не признающий Сына Божия истинным Богом, слушай, что говорит евангелист: «Свет истинный» И ты, манихей, говорящий, что мы созданы злым творцом, слушай, что Свет истинный просвещает всякого человека. Если злой творец есть тьма, то он не может никого просвещать. Посему мы создания истинного Света. И как, скажет иной, просвещает всякого человека, когда мы видим некоторых омраченными? Сколько зависит от Него Самого, Он просвещает всех. Ибо скажи, пожалуй, разве не все мы разумны? Разве не все по природе знаем добро и противное ему? Разве не имеем способности чрез размышление о тварях познавать Творца? Посему разум, данный нам и наставляющий нас природою, который и называется законом естественным, может быть назван светом, данным нам от Бога. Если же некоторые худо воспользовались разумом, те сами омрачили себя. Иные разрешают это возражение так: просвещает, говорят, Господь всякого человека, приходящего «в мир» (по-гречески – украшение, порядок), то есть в лучшее состояние, и старающегося украсить свою душу, а не оставлять ее беспорядочною и безобразною.»
Евфимий Зигабен
Бе Свет истинный, Иже просвещает всякаго человека, грядущаго в мир.
«Он был всегда, согласно изложенному выше богословскому учению о Нем. Как Бог, Он был всегда, а как человек, Он начал Свое бытие. Если же Он просвещает всякого человека, приходящего в мир, то каким образом осталось столько непросвещенных? Сколько зависит от Него Самого, Он просвещает всех, остаются же некоторые непросвещенными по своей воле. Благодать света, подобно солнцу, излилась на всех, но нежелающие воспользоваться этой благодатью сами виновны в том, что не просвещены. Истинным назвал этот свет, как ни с каким другим не сравнимый и превосходящий всякий другой, как свет по преимуществу. Свет истинный… называется истинным образом и истинной мудростью, и истинной жизнью, и т. п. не для порицания других святых образов или мудрости Божественных Писаний, или настоящей жизни, не говоря уже о будущей, но таким образом выражение указывает всегда на что-либо не сравнимое ни с чем другим по своему превосходству. В мир, или иначе: приходящего в истинный мир добродетелей.»
Лопухин А. П
Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
«Большинство древних толкователей видели указание на состояние Логоса до воплощения и переводят это выражение так: «существовал от века (ἦν) Свет истинный». Таким образом, здесь находят противоположение вечного бытия Логоса временному и преходящему существованию Предтечи. Многие новые толкователи, наоборот, видят в рассматриваемом выражении указание на то, что Логос, истинный Свет, уже пришел на землю, когда о Нем начал свидетельствовать Предтеча. Перевод нашему месту они дают такой: «Свет истинный уже пришел» или, по другому переводу, «уже выступал из состояния сокрытости» (в котором прошла Его жизнь до 30-летнего возраста). При таком переводе греческому глаголу ἦν придается значение не самостоятельного сказуемого, а простой связки, относящейся к последнему выражению стиха ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.
Наши толкователи (в том числе и Знаменский) держатся первого мнения, находя второе сочетание выражений «слишком искусственным». Но нам кажется, что при втором толковании мы избегаем перерыва в течении мыслей, который необходимо получается при допущении первого перевода. В самом деле, если здесь находить указание на существование Света до воплощения, то это будет значить, что евангелист без нужды снова возвратился к своему рассуждению о Логосе, которое он уже окончил, когда начал говорить о выступлении Предтечи (стих 6). Между тем при втором переводе вполне сохраняется последовательность мыслей: пришел Иоанн; он был послан для того, чтобы свидетельствовать о Свете истинном; этот Свет истинный уже появился в то время в мире, и потому-то Иоанн и захотел о Нем свидетельствовать.
Далее, если в выражении ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον видеть приложение к выражению τὸν ἄνθρωπον, то это выражение будет совершенно лишним, оно ничего не прибавит к понятию «человек» (ὁ ἄνθρωπος). Наконец, если некоторым кажется неестественным такое разделение глагольной связки ἦν от сказуемого ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον, то сомневающимся можно указать и на другие подобные сочетания в Евангелии Иоанна (Ин.1:28, 11:1, 18:18). И у синоптиков подобным же выражением ἐρχόμενος обозначается Мессия, т. е. Логос в состоянии воплощения (Мф.11:3; Лк.7:19).
В каком смысле евангелист назвал Христа «истинным Светом»? Слово ἀληθινός – «истинный», может означать: действительный, достоверный, искренний, верный себе, справедливый, но здесь наиболее подходящим является особое значение этого прилагательного: вполне осуществляющий идею, лежащую в основе бытия того или другого предмета, вполне отвечающий своему наименованию. Так и мы употребляем это выражение, когда говорим: истинная свобода, истинный герой. Если о Боге Иоанн говорит, что Он есть Θεός ἀληθινός, то этим он хочет указать на то, что Он есть единый, Kому приличествует это наименование «Бог». (ср. Ин.17:3; 1Ин.5:20). Kогда же он употребляет о Боге прилагательное ἀληθής, то указывает этим на истинность обетований Божиих, на верность Бога Своим словам (Ин.3:33). Таким образом, называя здесь Христа истинным Светом (ἀληθινόν), Иоанн хочет сказать этим, что всякий другой свет – будет ли то свет чувственный, свет для глаз наших или же свет духовный, который старались распространять в мире некоторые лучшие представители человечества, даже посланные от Бога, как Иоанн Предтеча, – не мог сколько-нибудь приблизиться по достоинству ко Христу, единственно отвечавшему тому понятию, какое мы имеем о свете.»
Святитель Кирилл Александрийский
Бе Свет истинный,
«Божественный Евангелист благополезно возвращается к разъяснению сказанного и ясно различает истинный Свет, то есть Единородного, от того, что не таково, то есть тварных существ. Ясно различается то, что по природе, от того, что по благодати, – от того, чему сообщается, то, что сообщается, – подающее себя нуждающимся от того, чему подается. И если Сын есть истинный Свет, то нет, следовательно, кроме Него никакого истинного Света, и тварь ни в себе самой не имеет возможности быть и называться светом, ни может произвести свет как плод собственной природы, но как из небытия есть, так и, не будучи светом, может возвыситься до бытия светом чрез восприятие в себя блеска Света истинного и чрез осияние причастием Божественной природы по подражанию ей называться, а вместе и быть светом. А Слово Бога по существу есть свет, не будучи таковым только вследствие причастия по благодати и имея в Себе это достоинство не в качестве случайного или прившедшего, как благодать, но в качестве неизменного плода непреложной природы и неотчуждаемого блага, перешедшего от Отца к Наследнику сущности Его. Тварь же не так может достигнуть того, чтобы быть светом: она, как неимеющая, получает; как тьма, освещается; обретенною имеет благодать, – по человеколюбию Дающего – достоинство. Таким образом, Сын есть Свет истинный, тварь же отнюдь нет. При таком различии и столь далеком расстоянии Сына Божия от твари, по отношению к тождеству природы, – разве не следует со всею справедливостью предполагать, что говорят вздор, даже более – вне всякого здравого смысла окажутся те, кои будут называть Его тварным и Творца всяческих ставить в ряд с тварями, не видя, как мне кажется, до какого нечестия эта дерзость может довести их, «не разумеющих ни того, что говорят, ни того, о чем утверждают» (1Тим.1:7). А что для нас, обыкших точнее исследовать истину в предлежащих словах, Сын, то есть «Свет истинный», отнюдь не окажется тварным, или созданным, или и вообще соприродным твари в каком бы то ни было отношении, – это каждый может увидеть отовсюду и весьма легко, а не менее из следующих далее рассуждений, собранных для уразумения предлежащих слов.