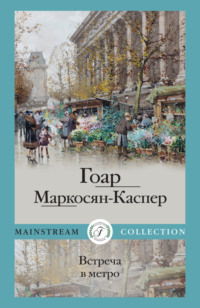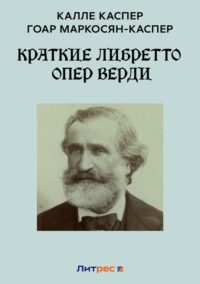Полная версия
Кариатиды
– Как ты думаешь, что я сегодня видела во сне? – спросила Ира, потягиваясь. – Ничего не думаешь? Нечем думать? Эх ты! Камеру. Нет, не тюремную, можешь так не таращиться, а ту, другую. Ну венец творения богов от электрофизиологии. Только не притворяйся, будто не знаешь, что это такое. Не знаешь? Ох и дура же ты! Это просто-напросто деревянная клетка размером два на два и еще раз на два, посреди которой торчит громоздкий агрегат, именуемый стереотаксической установкой. Иными словами, дыба, на которой какое-нибудь несчастное животное, в нашем случае кошку, растягивают и пытают током. Туда же, в эту самую камеру, напихана масса маловразумительных для неспециалиста… и, между нами, для большинства специалистов тоже!.. приборов, как-то: осциллограф, стимулятор, усилитель… Да ты меня не слушаешь! Что погрузило тебя в столь глубокую задумчивость, жирафа? Хочешь знать, что именно делают с животными, конкретно, кошками? Смотри, не пожалей о своем любопытстве, Жорж Данден! Так вот, сначала кошку наркотизируют, потом, когда она уснет, укладывают на операционный столик животом вниз, закрепляют в станке, потом разрезают кожу на спине, отделяют мышцы, вскрывают позвоночник, отламывая костными щипцами кусочки позвонков, далее препарируют нервы, а вернее, корешки… Не нравится? Ладно, молчу, молчу! Тем более, что после препаровки спинной мозг заливают вазелиновым маслом и оставляют злополучное животное в покое. На время, конечно. Дают нервам отдохнуть, чтобы потом уже взяться за стимулятор и пустить ток. И главное, нередко случается, что… Что ничего не случается. В смысле, не получается. Что-нибудь барахлит, задели корешки, пошли наводки, то-се, и в итоге несчастную просто выбрасывают на помойку без всякой пользы для науки. И вовсе я не садистка, и всегда меня от этого мутило, при каждом эксперименте я проклинала день, когда, возомнив, что предопределено мне… только не спрашивай, кем!.. пойти по ученой части, поперлась на биофак. А этот виварий! Вечно барахлящая вентиляция, вонища, кошки тощие и толстые, пойманные на улице, а иногда и домашние, украденные, случалось, что сданные хозяевами… Все равно откуда, конец один. Оставь надежду всяк сюда входящий… И не только кошка. Входишь и думаешь: ну неужели мне придется заниматься этим живодерством, вивисекцией, как оно изысканно именуется в художественной литературе, до конца своих дней? Да-да, конечно, до пенсии, но я не оговорилась, ведь старость и есть конец дней, дальше ведь уже не дни, а так, сумерки… Как бы то ни было. Деваться же некуда, не в школу же идти кочевряжиться перед оболтусами, которым глубоко плевать и на тебя и на биологию твою дурацкую, разве что когда до размножения дойдет, начнется глупое хихиканье… хотя хихикали мы, нынешние давно это все превзошли… Вот так. И надо же, теперь вдруг лаборатория приснилась! Да нет, жирафа, какая там наука, воображение одно, это в университете, в смысле, пока учишься, взаимосвязи, закономерности, развитие и прочая, прочая. Предмет в целом, так сказать. А потом выясняется, что сей предмет в целом состоит из миллиона крохотных предметиков, на каждый из которых кто-то потратил целую жизнь. Миллион жизней никому не известных ученых, которые копались годами, изучая, допустим, как влияет на потенциалы гамма-нейронов спинного мозга какой-нибудь гормон. Ты знаешь, что такое нейрон, жирафа? Нет, конечно, откуда администратору пусть даже преуспевающей гостиницы знать про нейроны с их потенциалами. Скучища, доложу я тебе. Все наперед известно, предполагаемый результат, как пишут в исследовательских планах. И никому не нужно. То есть теоретически, конечно, необходимо, еще один, как красиво выражаются, кирпичик и так далее, но практически… Люди открытия делали, настоящие, а не для диссертаций, и что? Вот, например, Гельмгольц. Ты знаешь, кто такой Гельмгольц? Нет? Вот видишь! К тому же время гельмгольцев миновало, современная наука это просто муравьиная куча… Черт возьми, сигареты кончились! На всякий случай Ира пошарила в ящике приткнутого к прикрытым простыней книжным полкам кухонного стола, не обнаружила ничего кроме вилок, ножей и прочих острых предметов и махнула рукой. Выходить было лень, да и Мукуч мог заявиться в любую минуту, и она вернулась на диван к журнальному столику, на котором стоял ее завтрак, кружка кофе и бутерброд с копченой колбасой, собственно, кофе в кружке оставалось меньше трети, да и бутерброд был наполовину съеден, поскольку она перемежала свой монолог откусыванием и отпиванием. Монолог, ибо речь ее за отсутствием другого собеседника была обращена к портрету, одиноко висевшему на матово-белой стене напротив, иначе говоря, к себе, поскольку портрет изображал не кого-либо, а самое Иру, правда, узнать ее было нелегко, разве что глаза и волосы, и то, в основном, цвет, глаза зеленые, а волосы темно-медные, а вообще-то фигурировавшее на достаточно живописной или, выражаясь точнее, красочной картине существо с запрокинутым безукоризненно овальным ликом и растянутой на полхолста шеей напоминало одновременно о Модильяни, Плисецкой и зоопарке, лично Ире больше о последнем, почему она и окрестила свое художественное отображение жирафой. И однако портрет занимал почетное место, поскольку Ишхан был художником довольно известным, можно даже сказать, модным, хотя в сущности художником он не был вообще, он был скульптором и в качестве последнего вполне умел добиваться сходства, а вернее, был вынужден это делать, ибо его клиенты пеклись, в первую очередь, о тождестве дорогостоящей копии с оригиналом, и лишь неоплачиваемое творчество позволяло ему свободно отдаваться вдохновению, малюя – не высекая либо отливая в бронзе, поскольку это обошлось бы, во-первых, не в пример дороже, а во-вторых, требовало куда больше времени – малюя друзей (почему бы не врагов?) в виде полуфантастических галлюцинаторных порождений, или, если прибегнуть к его собственной терминологии, порождений того, что он высокопарно называл духовным зрением. Пользовалось ли его духовное зрение недоброкачественными очками? Или, проницая оболочки в виде кожи, мышц, костей и прочей бутафории, оно видело суть вещей и людей? Подобные вопросы Ира задавала только себе, затевать дискуссии на этот счет с Ишханом она почитала занятием бессмысленным, собственно, она и себе вопросов не задавала, она отлично понимала проблемы художников, весь последний век пытающихся как-то отличиться от предшественников, что у них получалось не лучшим образом – а что делать? Что делать художнику после Леонардо, Боттичелли и Эль Греко? Если какие-то недоделки и нашлись, этим воспользовались импрессионисты и Ван-Гог. А что оставили скульпторам Микеланджело, Роден и?.. И кто? Никто. И не потому ли скульпторов за последние пару тысячелетий образовалось по сравнению с художниками так мало, что древние греки и их римские подражатели уже заполнили нишу до отказа? Словом, бедный Ишхан. Так что критические замечания она держала при себе, она просто повесила жирафу на стену и сдружилась с ней, во всяком случае, нередко беседовала с ней мысленно, а иногда, забывшись, и вслух, тем более что вести душевные разговоры ей было особенно не с кем, круг ее общения, некогда обширный, как арена цирка, суживался с каждым днем, превращаясь в закуток, пятачок, лоскуток, более того, деформировался, включая в себя всяких случайных людей и извергая тех, кто пребывал в нем изначально, по законам дружбы и родства. Начало положил брат… хотя нет, первой отчалила сестра, не очень, правда, далеко, в Москву, находясь посему в пределах досягаемости в отличие от брата, которого Ира не видела уже лет семь. Братишка, младший и нежно сестрами любимый, вроде бы никуда не собирался, да женушка, царевна-лягушка, лягушачьей кожи, правда, после замужества не скинувшая, но по повадкам и запросам точно крови царской, уговорила сыграть – из чистого любопытства, разумеется – в американскую лотерею, то бишь, розыгрыш “грин-карт”. Ире розыгрыш представлялся таковым в первоапрельском смысле слова, и каково же было ее удивление, когда вдруг… Супруги взяли да и выиграли. Нет, перебираться в Штаты они не собирались, но разве не дико иметь возможность получить вид жительства во всепланетном раю и отказаться его иметь, иметь просто так, на всякий случай? Потом выяснилось, что пресловутую зеленую карточку заочно не выдают, да и очно, чтобы ее заполучить, надо прожить в государстве с молочными реками и кисельными берегами энное число лет. В итоге парочка, а точнее, семейка, детей, естественно, не бросили, отправилась зарабатывать право на уже выигранные блага, иными словами, повкалывать немного на американский рай. И что за странная такая случайность, что в лотерее этой выигрывают одни здоровые люди и возраста самого подходящего, не настолько молодые, чтоб начать там учиться, а готовенькие, с образованием, и в то же время не то чтоб близкие к пенсии, Ира знала и других таких счастливчиков, все как на подбор, колесо фортуны умело остановиться в нужный момент. Короче, в итоге все устроилось ко всеобщему удовольствию, брат, кандидат наук, делал анализы в какой-то лаборатории, невестка, в прошлой жизни филолог, удачно перевоплотилась в страхового агента, дети ходили в школу, американское общество пополнилось четырьмя новыми членами, двое из которых уже исправно платили налоги, ну и Ире время от времени перепадала сотня-другая долларов – посылаемых непременно с оказией, потому как в Армению испокон веку все пересылается не по почте и не через банки, а при посредничестве надежных людей – долларов, которыми с ней, как с единственным неблагополучным, застрявшим на пустеющей, как подмываемый подземными водами аварийный дом, родине членом семьи делилась мать, пару месяцев назад уехавшая, возможно, и не навсегда, к сыну. Неблагополучие Ирино, было, впрочем, относительным, в материальном смысле уж точно, ведь ей посылал деньги и Давид, не говоря о гостинице, платившей вполне исправно немалое жалование, а сейчас, ставши на ремонт, выложившей наличными шестимесячное содержание, благодетельнице, в самые холодные и темные годы поставлявшей свет и тепло, даже горячую воду, кормившей, обогревавшей и позволявшей сохранять независимость. Да! Ира ничего ни у кого не просила, ни у брата, ни у Давида, тому даже намекала, что вполне в состоянии прокормить себя, тем более теперь, когда Гришик в Москве, пусть оплачивает учебу и недешевую московскую жизнь сына, а она обойдется, но тот упорствовал, все надеялся, что рано или поздно она передумает, поедет к нему, никак не хотел себе признаться, что за всеми ее отговорками прячется одна и та же простенькая истина: если женщина любит, ей и на Шпицбергене не холодно, и на необитаемом коралловом атолле не одиноко, а коли она без конца отнекивается, объясняя, что нечего ей в германском университетском городке делать, некуда пойти и не с кем словом перемолвиться, то… Бедный Дэвид! Как он переживал, оказавшись в те холодные-голодные годы почти что на иждивении у жены, того, что ему платили в университете, не хватало б и на утренний кофе, он даже курить бросил, она курила, а он бросил, и какая была радость, этот контракт, “поеду, осмотрюсь, устроюсь и вас вызову”, но она доказала, что мальчик должен доучиться, как-никак девятый класс кончает, а потом… Хотя, конечно, не только в Давиде дело. Любовь, не любовь, можно подумать, она кого другого обожает. А в чем? Ее нередко спрашивали, почему она кукует тут в одиночестве, когда у нее муж в Европе, брат в Америке, и она отвечала: “Мне и здесь хорошо”. Так ли? В конце концов, должен ведь кто-то и в Армении остаться, не могут же все уехать, как в том невеселом анекдоте насчет объявления в ереванском аэропорту: “Улетающий последним пусть выключит свет”…
Раздался громкий стук в дверь, без сомнения Мукуч, горе-работник, почему-то не желавший звонить, а молотивший в дверь кулаком размашисто и зло, как боксер по груше, собственно, злым его не назовешь, напротив, человек он был веселый и даже благодушный, просто мастер никудышный, Ира позарилась на дешевизну, брал он более чем недорого, а на евроремонт она не тянула, вот и вляпалась и теперь разве что не подправляла за ним с кистью, не подправляла, но по пятам ходила и тыкала в огрехи, сама она была по натуре перфекционисткой, каждый угодивший в эмаль волосок или плохо сходившиеся края обоев вызывали у нее почти физическое страдание, а подобных, как почти радостно говорил Мукуч, мелочей, хватало, и на каждую у этого лоботряса находилось оправдание, обои толком не состыковывались, потому что стены кривые, проглядывали небрежно заделанные трещины на потолке, так латекс некачественный, никак не удавалось пригнать трубы в кухонной мойке, понятно, что попались бракованные, о неровно ложившемся кафеле в ванной Ира уже не спрашивала, она мечтала только о том, чтобы кафеля хватило, потому как сколько купить, высчитывал Мукуч, а оценить его арифметические способности Ире представился случай совсем недавно, но, впрочем, как раз вовремя, уже собираясь в магазин за линолеумом, она вдруг осознала, что ее немаленькая кухня, если судить по определенной Мукучем площади, кажется какой-то черемушкинской каморкой. Перемерив собственноручно длину и ширину она обнаружила, что халтурщик ее потерял где-то четыре квадратных метра, еще час, и она купила бы ни к чем не пригодный кусок отнюдь не дешевого товара… Впрочем, гостиная, где она сидела, выглядела неплохо, белые обои, которые она искала битый месяц, были такой фактуры и рисунка, что казалось, будто стены кожаные, из лоскутков, наподобие модных недавно, а может, еще и теперь, сумок, у нее самой такая лежала, большая и тяжелая, к тому же пестрая настолько, что летнего платья к ней не подберешь, разве что однотонное, зеленое… удачно вспомнила, надо его найти и надеть, а то с этим ремонтом ходишь, как… Стук повторился.
– Иду, – крикнула она, допила кофе и встала.
В маршрутке было жарко, как в аду. В аду? Сравнение выглядело неприлично избитым, и Рита быстро подобрала другое: как на кухне тридцать первого декабря, не сейчас, конечно, а когда топили. Тоже не слишком удачно. И не настолько жарко. В духовке? То-то и оно, ей никогда не давались метафоры, сравнения и прочий поэтический ассортимент… Ох-ох! Она терпеть не могла эти душегубки – маршрутки, конечно, а не духовки, в прежние времена не садилась в них вовсе, но теперь деваться было некуда, давно отжившие свое автобусы и троллейбусы, одышливо пыхтя и отвратительно скрипя всеми своими несмазанными сочленениями, ползли в гору медленно и трудно, как задержавшиеся на белом свете старики, к тому же мало их, горемык, оставалось, и ходили они редко, не то что маршрутки, те выскакивали из-за поворота практически ежеминутно, норовили юркнуть в любой просвет, а на остановках буквально отжимали друг друга от тротуара, сражаясь за пассажира с риском для жизни. Естественно, не своей. Конечно, изобилие это при близком знакомстве оказывалось обманчивым, одно дело центр, до него можно было добраться на каком угодно номере, однако если ехать дальше, особенно, в нестандартном направлении, то ждать приходилось довольно долго. Но на Прошяна отсюда из иных видов транспорта шел разве что трамвай, и хотя останавливался он недалеко, метров двести, не больше, предугадать, когда вяло дребезжащий, разболтанный, пусть и относительно прохладный, вагон выкатится из-за угла, никому не было дано, и потому она села в лихо подкатившую прямо к ней маршрутку и не жалела, что села, хотя взмокла сразу, по спине между лопатками струйкой потек пот, и блузка прилипла к телу. Зато не успела она пристроить на коленях свои вещички, сумку плюс целое полиэтиленовое хозяйство, три пакета, нет, четыре, как шустренький микроавтобус уже проскочил подъем, задержавшись на минуту перед светофором у арки входа в метро, почти сплошь заставленной металлическими цилиндрами, из которых торчали заморенные жарой розы и гвоздики на длинных, как телебашни, стеблях, и, проехав мимо теснившихся к бровке тротуара торговок, восседавших за горами абрикосов и вишен, свернул на Баграмяна. Мелькнул переулок, где, по преданию, торговали уже иным товаром, Рита, правда, собственными глазами этого не видела, но наслушалась по самые уши разговоров о собирающихся тут ежевечерне чуть ли не толпами девочках разного возраста и достоинства, ценой от двухсот драмов до ста долларов, стодолларовые, впрочем, на углах не стояли, тут уже фигурировали машины, мобильники, сутенеры и мадам, все честь по чести, так, во всяком случае, утверждал один из клиентов Ишхана, имевший отношение к милиции. Вернее, к полиции, теперь же их именуют полицейскими, во всяком случае, официально… Маршрутка между тем свернула на Прошяна и покатила мимо длинного ряда шашлычных, фасад одной из которых сиял аж зеленым мрамором, Рита только головой покачала, хотя это еще ничего, домик одноэтажный, и полированная, напоминавшая цветом недурного качества нефрит поверхность не выглядела заплаткой, а то в последние пару лет появилась новая мода – облицовывать кусок стены вокруг витрин магазина или окон ресторана мрамором, автором этой совершенно идиотской идеи наверняка был некто с купеческой натурой, первый, но не последний, подражатели объявились моментально, полюбуйтесь, неуважаемые сограждане, какой у нас размах, и не успели сограждане оглянуться, как на розовом туфе многих зданий стали красоваться разноцветные мраморные нашлепки. И никто не вмешивается, всяк творит, что взбредет в голову, как сюзерен в феодальных владениях, собственно, и на городском уровне те еще номера выкидывают, вот взяли да и спилили ветви наголо, буквально превратили в столбы все деревья на Абовяна, излюбленном горожанами месте прогулок, единственной старой улице, которую бы пешеходной зоной объявить, а не тень на ней полностью ликвидировать, хотя какие пешеходы, нынче миром правят автомобилисты, пусть в Ереване машин меньше, чем в советское время, все равно, командуют те, кто за рулем… Вышло нечто вроде каламбура, Рита даже удивилась, она и в этом жанре была не особенно сильна… А в чем ты сильна, спросила она себя строго, коли ни в чем, так зачем бумагу марать?.. На Прошяна движения почти не было, и она едва успела вынуть платок и промокнуть лоб, как проскочив мимо длинного, изрядно поосыпавшегося, местами вплоть до полного обнажения ржавых прутьев, железобетонного забора, прикрывавшего зеленую низину, откуда торчала макушка высотки, в недавнем прошлом российского посольства, раскаленная хлеще, чем разогретый на все три точки утюг, машина затормозила у “лечкомиссии”, как в народе издавна и по сей день называли бывшую больницу Четвертого главного управления Минздрава. Рита собрала свои пакеты и полезла наружу.
В первый момент после смены режима движимые революционным порывом новые власти лечкомиссию ликвидировали, но довольно быстро восстановили, правда, не в прежнем виде, а без бывших льгот, и приписанные к ней пациенты там и остались, утратив, однако, привилегии, пожалованные им демонтированным советским государством, вот и отец Риты, некогда причисленный к элите в качестве так называемого персонального пенсионера, продолжал значиться в списках, хотя уже лет десять, как все персональные пенсии отменили, собственно, это случилось почти сразу после того, как он эту самую персоналку оформил, и потому ни одним из обещанных (не в очень большом количестве) благ попользоваться не успел, разве что поликлиникой. И теперь вот стационаром. Впрочем, “Скорая” доставила его сюда не в соответствии с местом приписки или прописки, а просто больница в тот день дежурила, или как это у них называется… Рита прошла по узкой асфальтированной дорожке вдоль балконов ко входу в на диво прохладный и совершенно пустой вестибюль – никаких церберов, вообще никого, поднялась по мраморной лестнице, покрытой стоптанной ковровой дорожкой, на третий этаж и свернула направо, в широкий коридор, куда выходили двери палат.
Она толкнула дверь, и, как каждый раз, сердце чуть екнуло, но она сразу увидела мать, пристроившуюся с мятой вчерашней газетой на малоудобном куценьком стульчике у открытой настежь балконной двери, и успокоилась. Отец вроде бы дремал, но когда Рита, свалив свой немалый груз прямо на кровать, поманила мать в коридор, открыл глаза.
– Ну как ты? – спросила Рита.
Отец неопределенно повел рукой, comme ci, comme ca, мол, sosolala, скорее второе, поскольку во французском был неискушен, зато по-немецки немного кумекал, ибо в школу пошел до войны при соответствующем вероятном противнике.
– Ладно, – сказала Рита, не дождавшись ничего, более вразумительного. – Спрошу Гаянэ.
Отец скривился.
– Да что она понимает, дуреха, – проворчал он.
– Ну к профессору зайду. Обход был?
– Завтра.
– Завтра и зайду.
Отец согласно кивнул и закрыл глаза.
– Я все выяснила, – сообщила мать, выкладывая банки и свертки из Ритиных пакетов на старый, напоминавший о советском общепите фанерный с металлическими ножками стол, заставленный всякой утварью как-то: эмалированные тазики, пластмассовые тарелки, маленькая алюминиевая кастрюлька, джезве, кофейные чашки, стаканы и прочая, прочая. Там же стояла крохотная кустарная электроплитка, на которой кипятили воду для чая, согревали еду, ну и варили кофе, конечно, хотя больному ничего такого не полагалось.
– Ну?
– Опять творог! Зачем столько? Папа еще позавчерашний не доел. Скиснет ведь. Кто есть будет?
– Ты.
– Я творога не ем, – возразила мать.
Знаю, хотела сказать Рита, не ешь, потому что дорого, но удержалась и вместо этого заметила:
– Так то дома.
– Не я же больна.
– Неважно.
– Как это неважно, – начала мать, но Рита ее перебила.
– Что ты выяснила?
– Двадцать лечащему врачу, тридцать профессору. Это, конечно, самый минимум.
– Минимум?! – возмутилась Рита. – Папа, между прочим, по госзаказу проходит. Ему положено бесплатное лечение.
– Врачам с сентября зарплату не выдают, – напомнила мать.
– А тебе выдают?
– Ну… Пенсию еще более или менее приносят, – сказала мать честно.
– И сколько она у тебя? Двадцать долларов?
– Семнадцать. – Мать подумала секунду и добавила: – С половиной. – Считала она, несмотря на свои семьдесят с небольшим, быстро, собственно, с чем, с чем, а с арифметикой у нее всегда был полный порядок, хотя преподавала она историю, предмет, на первый взгляд, от математики далекий, на первый, потому что на второй видно сходство, наша эра, до, положительные числа, отрицательные…
– Семнадцать с половиной у тебя. И столько же у папы. Сколько получается всего? Тридцать пять?
Мать не ответила, только вздохнула.
– Еще за свет надо заплатить. Четыре тысячи.
– Здрасте! Эти четыре тысячи с меня содрали в первый же день! Пусть поищут. Деньги или того, кто их прикарманил. Так и скажи.
– Попробую.
– Пятьдесят долларов, говоришь… – Рита задумалась.
Мать помолчала, посмотрела с ожиданием, потом сказала:
– Если у тебя нет, я одолжу.
– Где это ты одолжишь?
– Где-нибудь.
– Да? А как возвращать будешь?
– Ну а что же делать?
– Да не давать! Просто-напросто!
– Как это? – испугалась мать.
А вот так, хотела было ответить Рита воинственно, но промолчала. Не умеют армяне жить по средствам или хотя бы близко к тому. Послушаешь, как они ноют, мол, обирают везде, на родительское собрание в школу сходишь, одни цветы с бонбоньеркой уже ползарплаты, а посоветуй им пойти без, так взовьются!.. Да что собрание, к подруге или родственнице, видишь ли, не заглянешь на чашку кофе, потому что с пустыми ведь руками не пойдешь – а почему не пойдешь? Или купи там цветочек, розу одну, так нет, обязательно букет. И главное, чем меньше заработки, тем больше букеты, такие стали сооружать, величиной с автомобильное колесо (и, кстати, мятые, словно по ним ездили!), не букет, а клумба, и цена соответствующая, а посмотришь, как в дни экзаменов дети к школе тянутся, непонятно, или бенефис примадонны какой, или Бирнамский лес, ну не лес, версальские парки с места снялись. И откуда, спрашивается, деньги? На букеты, на бонбоньерки, на тряпки, наконец? Последний вопрос мучил Риту не первый год, еще в стародавние советские времена, когда получала она вполне приличную по тем понятиям зарплату, она диву давалась, глядя, как какие-то, к примеру, девчонки из бухгалтерии, не моргнув глазом, покупали с рук свитера за четыреста рублей и туфли за двести. Откуда брались подобные суммы? Это так и осталось для нее тайной, и теперь, когда почти никто вокруг зарплаты не получал, и все тем не менее каким-то загадочным образом жили, она вновь ломала голову, пытаясь понять, как же это выходит. Правда, иногда… Вот в данном конкретном случае: двадцать долларов с пациента, и если хотя бы пять больных в месяц на врача в отделении наберется, то доктор концы с концами сведет. Даже если кто-то заартачится, большинство все равно раскошелится… А за что, спрашивается, ожесточилась она вновь, ну за что?! Голая комната, даже постели нет, один матрац да подушка без наволочки, хочешь простыни, плати или свои неси, из дому, питание больничное отменили, лекарства приходится самому покупать, да еще мухлюют, в больничную аптеку посылают, где все на треть дороже, чем в городе, ухода, естественно, никакого, родные присматривают, если, упаси боже, санитарка понадобится или сестра, за каждый раз, когда она нос в палату сунет, в карман бумажку, да что же это такое! Да, еще деньги за свет! Четыре тысячи, в одной палате за год столько света не пожжешь! Вымогатели!.. Но и злясь, она понимала, что и сама волей-неволей будет в эти игры играть, заплатит, как миленькая, никуда не денется, не будет же на мать перекладывать, а переубедить ту никак невозможно, собственно, и самой ей было неловко, ну как не дать, когда смотрят на тебя с ожиданием и явно дают понять… какое дают понять, нынче все открытым текстом, скажут, и глазом не моргнут, нет, она сознавала, что никоим образом не отвертеться, просто пятидесяти долларов лишних у нее не было, конечно, у Ишхана найдутся… поэтому она и злилась, в сущности, медики не виноваты, что их так подставили, более того, Нара, приятельница ее, говорила, что врачам приходится оплачивать стирку тех же простынь. Например. Оплачивать из собственного кармана, в который государство вот уже полгода даже подаяние, иначе не назовешь, класть не желало или не могло, и если б не надо было просить у мужа именно сегодня… Правда, это еще не сегодня. Хотя отцу стало лучше, он уже вставал и ходил по палате, но держать его в клинике собирались до конца следующей недели, понятно, больница у них полупустая, что неудивительно, цепляются за тех, кто уже сюда попал, по собственной воле или против, “Скорая” привезла… Рита на секунду задумалась, ходили слухи, что врачи в больницах платят “Скорой”, чтоб везли больных именно к ним, интересно, правда ли… Хотя какая разница…