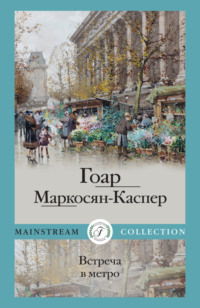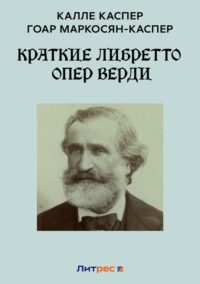Полная версия
Пенелопа
– К тому же Манучарян – бессребреник, – продолжал рассуждать Эдгар-Гарегин, всматриваясь в выбитый асфальт. – Я знаю людей, которые бывали у него дома и…
– Остряк он, – перебила его Пенелопа. – Юморист. Жванецкий. Или Задорнов. Слышала я как-то летом его речь, проходила мимо. Публика ха-ха, хи-хи, аплодисменты. Интересно же послушать, кто у кого что украл. Не соображают, что у них-то самих и украли. Стадо баранов. Посмеялись и разошлись. Жоховурд… И вообще, не морочь мне голову своей политикой, к черту, надоело!
– Нда, – вздохнул ностальгически Гарегин-Эдгар. – Кто бы мог подумать, что все так обернется. А помнишь, Пенелопа, как мы с тобой тут шагали, тогда, в феврале?
– Ничего не помню, ничего не знаю, – сердито буркнула Пенелопа, но машинально кинула взгляд на бурую решетку – они уже ехали вверх по Баграмяна – за которой стоял бывший ЦК. Стоял, сидел, восседал и теперь сидит, правда, в креслах пожестче, но не на нарах, такой это народ, в огне не горит, в воде не тонет, только дедушка Сталин находил на них управу, этим, видно, и снискал любовь масс, кто еще так запросто расстреливал начальство, да и вакансии освобождались почем зря… Вот здесь, вдоль решетки, редкой цепью стояли солдаты, совсем молоденькие, смотрели недоуменно, некоторые с любопытством, а они с Эдгаром-Гарегином бодро шагали от угла Прошяна, где улица была перегорожена, и автобусы останавливались, извергая веселую разноцветную человеческую массу, которая гордо именовала себя народом. Дальше все шли пешком, порознь, по двое-трое, реже группами, проходили мимо немого, вернее, безгласного Верховного Совета, тихо фрондирующей Академии Наук и оцепленного защитничками отечества – в данном случае, их правильнее было б называть защитничками от отечества – “ихнего паршивого ЦК”. Пенелопа ясно помнила два чувства разного порядка, оба теперь такие далекие, сливаясь, они создавали ощущение праздника, одно, проистекавшее из новизны ситуации – идут вдвоем, вместе, открыто, не таясь, иногда даже берясь за руки, и другое… А другое? Порыв национального чувства? Неужели, не может быть, чертовщина, чушь, чепуха!.. ну если уж очень-очень, совсем честно и откровенно, то да, национального – мы, армянский народ, мы, умные, древние, творцы и художники, наш язык, наши храмы, наши манускрипты, наши Маштоц и Нарекаци… Было, было. Однако, это не все, еще и беззастенчивое наслаждение стихией бунта – не кровавого, агрессивного, тупого, как там, а бескровного, цивилизованного, несущего свободу. Свобода!!! Хотелось петь и кричать, хохотать и прыгать от восторга – свобода! Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы… но какая свобода, это был мираж, химера. Ложь, все ложь, в том числе, что шли вдвоем, не таясь… Пенелопа кинула на Эдгара-Гарегина негодующий взгляд, но тот ответил ей широкой улыбкой, видно, мысленно тоже шагал рядом с ней по Баграмяна, по проезжей части, очищенной от машин и отданной демонстрантам, собственно, не очищенной и, разумеется, не отданной, а просто меры безопасности, чтоб никто вдруг не подкатил к ЦК на бравом “Жигуленке” или “Москвиче” и не швырнул на двести метров атомную микробомбу (иной эти стены не возьмешь), а то и пробил бы удалым своим передним бампером чугунную решетку и, взлетев на одном дыхании мотора по крутому склону холма, подпирающего здание власти, взорвался, воткнувшись в многоэтажную махину. Как бы то ни было, транспорт с нижней половины Баграмяна убрали, и люди шли и шли по широкой мостовой. Вначале толпа была негустой, рядом вышагивала только небольшая колонна молодежи, лет по восемнадцать-двадцать, от угла отошли молча, потом пожилой мужчина стал во главе, взмахнул рукой, и все запели, слаженно и без сбоев, видимо, какой-то хор, или сбежали с занятий студенты музыкального училища вместе с преподавателем. Песни, конечно, запрещенные, фидаинские, пели с подъемом, Эдгар-Гарегин принялся даже подтягивать, но Пенелопа дернула его за рукав, выводить трели на улице казалось ей все-таки немножко слишком. Потом толпа стала густеть, когда миновали ЦК с его оловянными солдатиками, безоружными и невраждебными, совсем нестрашными, образовалась уже настоящая демонстрация – транспаранты, лозунги, плакаты, там и сям какие-то группы скандируют: “Армяне, объединяйтесь!” Начиная с поворота на Московскую, весь район оперного театра с примыкавшими к нему площадями, улицами и скверами был запружен народом – жоховурд, черт его дери! Такого Пенелопе не приходилось видеть даже в кино, ну может, где-то в воображении именно так она представляла себе Февральскую революцию – тогда, в восемьдесят восьмом, теперь-то она уже знала, что во время Февральской революции убивали. На добрых полчаса они застряли у Сарьяна, памятник был облеплен роем молодых мужчин, словно начиналась война, и их увозили на фронт, но, конечно, никто их не увозил, по крайней мере, тогда. Со ступенек кричал срывающимся голосом оратор, но не в микрофон, а так, в воздух, и Пенелопе ничего не удалось расслышать, уловила только пару раз “солдаты”, “Афганистан”, потом разглядела прицепленное в памятнику полотнище, сплошь увешанное орденами и медалями, и догадалась, что это митингуют “афганцы” (еще и поразилась про себя, никогда ей не приходило в голову, что стольким армянам довелось попасть на афганскую войну). Эдгар-Гарегин, естественно, обнаружил знакомых, пришлось приложить немало труда, чтоб оторвать его от компании – что за везение, вечно ей попадаются мужчины, липнущие к приятелям, а приятелей у них все мужское население города Еревана и прилегающих территорий – оторвать и потащить дальше, на Театральную площадь. Легко сказать! По проспекту – бывшему бывшего, бывшему проспекту бывшего вождя, к которому, то бишь вождю, тогда еще относились вполне всерьез, серьезно до курьеза, плавал в числе прочих над головами и наивный плакатик с призывом вспомнить о ленинской национальной политике – по проспекту тек поток, и преодолеть его было не проще, чем переплыть, допустим, Днепр, хоть и чудный, но радиоактивный в любую погоду, и тихую, и бурную, во всяком случае, в те, постчернобыльские времена. Однако, и переправившись на противоположный тротуар, они ни на йоту не продвинулись, а только окончательно увязли в толпе… пардон, жоховурде. Люди стояли неподвижно, напряженно вслушиваясь (но ничего не слыша), никто не толкался, все были невозможно вежливы, ни дать, ни взять, галантный двор французских королей лет эдак за сто до изобретения гильотины. Посторониться? Пожалуйста, сколько угодно, но укажите, куда. Ни одного просвета, ни единой щели, в которую удалось бы просочиться даже утонченно тоненькой в те годы Пенелопе и абсолютно еще лишенному брюшка, хоть и обладавшему уже автомобилем, правда, не “Мерседесом”, Эдгару-Гарегину. Оставалось обойти площадь кругом в надежде подобраться поближе в другом месте. Тщетно. Вдоль решетки, которая отгораживает сквер, опоясывающий вожделенную асфальтовую запятую подле величественного изгиба театрального здания, стеной в три-четыре ряда стояли люди. Наконец, дотопав аж до Лебединого озера, они не то что пробились или проскользнули на площадь, нет, даже не сумели подойти достаточно близко, но зато попали в зону слышимости. Пенелопа, правда, не слушала или слушала вполуха, она просто смотрела на озеро, море, океан голов… фи, как банально, Пенелопея, но что еще, не Млечный же путь?… ну ей-богу, там теснились сотни тысяч человек. Позже называли цифру, но совершенно несуразную, семьсот тысяч, эдакой куче уж никак не поместиться на подобном пятачке, хотя высчитал ведь кто-то, что все человечество можно запросто выстроить на территории Люксембурга. Так или иначе, народу было море разливанное, и глядя на этот разлив, Пенелопа, наконец, поняла, почему фантастическое с советско-социалистической точки зрения сборище не разгоняют. Слишком много. Не перестрелять же пол-Еревана? Собственно, перестрелять-то можно, но ведь пуль не хватит. А если и хватит, что делать с таким количеством трупов? Где хоронить? Придется опять-таки пол-Еревана взорвать и очистить под кладбище. Больно хлопотно. Кто станет возиться, работать ведь в этой стране никто не любит, работнички-то великой армии труда только владеть землей горазды, а вкалывать ни-ни… В голову лезла всякая ерунда, и, как фон или, скорее, наоборот, как лейтмотив, пульсировала знаменитая фраза из школьного учебника: мы не рабы, рабы не мы… или рабы немы?.. странная фраза из лучшего в мире учебника для рабов, рабищ и рабенышей. И когда с трибуны нескрываемо презрительным тоном, даже с издевкой, объявили, что на митинг пожаловал сам первый секретарь ЦК господин… Тьфу, Пенелопа, что ты несешь, какие тогда могли быть господа, да еще в ЦК… а впрочем, почему нет, именно в ЦК, где ж еще?.. ладно, оставим эти тонкости в стороне, просто тон объявления был таков, что вместо товарища засело в памяти чужережимное слово “господин”… когда к народу вышел сам господин Демирчян, и площадь встретила его оглушительным свистом, Пенелопа открыла рот, чтобы торжествующе выкрикнуть это свое “мы не рабы”, но не посмела, вернее, постеснялась и стояла молча, восторженно холодея и замирая. И Эдгар-Гарегин сжал ее руку, не ища вороватым взглядом знакомых, которые могли б увидеть, засечь, донести его дражайшей половине, где и с кем…
– Как поживает твоя дражайшая половина? – осведомилась Пенелопа с нарочитой заинтересованностью, делая вид, что мир не полнится слухами, и в Ереване не все про всех все знают, но Эдгар-Гарегин не стал мелодраматично восклицать: “Я забыл само ее имя!” или “Я чист пред богом и людьми… то есть, тьфу, тобой!”, а мужественно ответил:
– Ол райт.
Улица Прошяна пахла шашлыком и кебабом, из-за высоких каменных стен, заменявших в этом районе заборы, струился сладострастно изгибавшийся и обволакивавший разрозненных прохожих синеватый дым, одно лишь касание которого к ноздрям Пенелопы заставило бунтующе сжаться ее отнюдь не переполненный желудок. Предатель! Завезти голодную женщину в царство исходящих соком, тесно жмущихся друг к другу на неуютном вертеле румяных кусков мяса и тонких, вытянутых кебабин, только и ждущих того, чтоб с истомой лечь в хрустящее полотнище лаваша и завернуться в него – туго, как окутывают большим махровым полотенцем разгоряченное купанием тело. А на рыжих глиняных тарелках лоснятся влажные белые ломти овечьего сыра, удлиненные, гнутые, как турецкие ятаганы, стручки маринованного перца и пышные пучки зелени, которую Пенелопа обожала и могла жевать целыми днями, как юная козочка. Предатель! Однако, порционных судачков а натюрель тут все же не подают, и можно попробовать выстоять. Тем временем коварный водитель “Мерседеса” загонял уже во двор двухэтажного особнячка свою тачку, как невесть почему называют лимузины, кадиллаки и прочие нехитрые средства передвижения в Москве и, видимо, в Калининграде – “поставлю тачку позади шалмана”, так выразился новоявленный калининградец, страшно довольный собой, еще бы, выучился говорить по-русски, как сами русские. Ох эти русские, упорно совершенствующие “велик могучим русский языка”, называя машины тачками, деньги бабками, заменяя девять слов из десяти на одно нелепое “крутой”, а десятое на бессмысленное “тусовка”. Когда прошлой зимой в Москве знакомая журналистка за полчаса сорок семь раз произнесла слово “крутой”, Пенелопа, загибавшая по третьему кругу пальцы на руках и ногах, поняла, что предпочитает быть отнесенной к категории – о ужас! – демодэ, но только современным арго решительно пренебречь…
– Мне, пожалуйста, чашечку кофе, – промолвила Пенелопа, усаживаясь за большущий стол, насильственно водворенный – так, что один угол выступал за порог, а другой подпирал окно – в маленький отдельный кабинет с видом на ущелье и Цицернакаберд, заваленный снегом, из которого чужеродно торчали верхушки памятника жертвам геноцида. Но Эдгар-Гарегин только фыркнул, и через пару минут в кабинет потянулись официанты с многочисленными подносами… по правде говоря, официант был один, но тарелок он принес столько, что казалось, целая вереница подавальщиков устремилась к столу, влекомая перстом или кошельком не то Лукулла, не то графа Монте-Кристо. Пенелопа долго не могла оторвать взгляд от маслин, тугих и блестящих, коричнево-черных и сочных вроде глаз того же отяготившегося избыточным количеством миллионов Дантеса или пылкой, но благородной Мерседес, потом ее немаленький (увы, не Мерседесин) – немаленький, но успешно нейтрализуемый пышной челкой нос учуял незамеченную до сей поры семгу, а когда официант подобострастно поинтересовался, не желают ли господа отварной форели, Пенелопа внезапно осознала, что в обедах с бывшими возлюбленными нет и никогда не было ничего дурного, напротив, это жест христианского милосердия и аристократической снисходительности к низшим сословиям, да, желают, вскричала она мысленно, да. Да. Да. Между тем, владелец “Мерседеса” уже коротко кивнул, и официант унесся, оставив после себя приторный запах французского одеколона по четыре тысячи драмов флакон.
Форель оказалась сочной, шампанское сухим, кофе явно сваренным на песке, а коньяк настоящим марочным, без намека на подделку.
– Пенелопа, – сказал Эдгар-Гарегин, когда его ублаготворенная сотрапезница лениво отщипнула от объемистой виноградной грозди очередную изящную, длинную, вполне еще упругую ягодку и примеривалась, отправить ли ее в рот немедля или повременить, покрутить для вящего эффекта в гибких своих, тонких пальцах с безукоризненными ногтями. – Пенелопа, выходи за меня замуж.
– Замуж? – натурально удивилась Пенелопа. – Но ты ведь женат.
– Пенелопа, – укоризненно покачал головой владелец “Мерседеса”. – Она здесь, я там. Я с ней уже сто лет не живу. Не притворяйся, что ты этого не знаешь.
Если б не выпитое шампанское, долитое коньяком, Пенелопа все же не преминула бы попритворяться еще хоть чуточку, с мужчинами надо держать ухо востро, но теперь ее разморило, изображать неведенье или недоумение было лень, и она только полюбопытствовала:
– А со мной ты тоже собираешься создавать аналогичную семью? Ты там, я здесь.
– Ты лишь скажи “да”, – с неожиданной и оттого еще более нелепой страстью в голосе бухнул Эдгар-Гарегин, – я за два дня оформлю развод, брак и увезу тебя с собой. Чем ты тут занимаешься? Выламываешься целый день за гроши? А там у меня солидное дело. Корпорация, можно сказать. Квартира, машина, самолет. Захочешь – гуляй себе на воле.
– На волю, в пампасы! – энергически уточнила Пенелопа.
– А не захочешь, я и тебе работу найду. Работы хватает. Поехали, Пенелопа! Скажи “да”.
– Нет, – сказала Пенелопа.
– Почему?
– Почему?
– Да, почему?
– Ну… – Пенелопа поискала слова, но ничего подходящего не подворачивалось. Конечно, можно бы начать с того, что на просьбу сказать “да”, она всегда отвечает “нет” и наоборот, но это как-то несолидно…
– Поезд ушел, – выпалила она неожиданно для себя и отчаянно покраснела. Вечно одно и то же, как наступит момент, когда следует произнести слова величавые и мудрые – бумс! – с языка непременно срывается какой-нибудь штамп, нечто донельзя заезженное и затасканное. И ушедший поезд сразу представился ей грязным, разбитым, ну совершенно советским составом из одних плацкартных вагонов с рассохшимися окнами, дребезжащими площадками, треснувшими стеклами, ржавым мокрым бельем и сонными проводницами, одетыми в разномастные юбки и кофточки. Света в поезде, естественно, нет, дверные замки сломаны, и всю ночь, вместо того чтобы спать, лежишь и трясешься, что кто-то вломится в купе… какое купе? Плацкарт же! Неважно – все равно вломится, схватит и увезет куда-нибудь в Калининград, Кенигсберг, к могиле зануды Канта, на берег противной, холодной, серой лужи, именуемой Балтийским морем…
– Поздно, понимаешь, – сказала Пенелопа, пытаясь покинуть стремительно уносящийся, выстукивая колесами бесконечный, иногда разбавляемый анапестами ямб, идущий без остановок, даже не снижающий на полустанках скорости поезд. Ничего не поделаешь, придется прыгать на ходу, уповая на лучшее. Или поискать стоп-кран… – Поздно.
– Почему? – упрямо повторил понурый владелец “Мерседеса”, корпорации и самолета, и Пенелопа сделала новую попытку найти проникновенные и глубокомысленные слова, опять наткнулась на этот треклятый ушедший поезд, машинально поставила на подножку ногу, вторую… черт!.. соскочила и в сердцах отпихнула его подальше – теперь он казался игрушечным, заводным, безвольно перекатывался взад-вперед по коротеньким, лежащим полукругом рельсишкам – отпихнула и, не найдя ничего более уместного, уронила небрежно и загадочно:
– Я люблю другого.
– Кого? – осведомился Эдгар-Гарегин недоверчиво, и она ответила туманно и уклончиво:
– Одного человека.
– Я понимаю, что не кошку, – сыронизировал владелец “Мерседеса”, корпорации и далее, см. выше, и Пенелопа воззрилась на него с любопытством, смешанным с недоумением, а может, и тайной обидой – нет, чтоб заплакать, закричать, удариться головой, вон тем самым местечком на темени, крохотной, но многообещающей лысинкой, которую она злорадно отметила в первый же миг, когда он повернулся спиной, удариться непробиваемой своей башкой об толстую туфовую стену… ну да, как же, они ударятся, разве мужчины способны на подобные порывы, эти самовлюбленные, самоуверенные, самодовольные прохвосты, гады и уроды!.. Воззрилась, а потом поняла: он ей просто не поверил. Не поверил, что все кончилось, что она добралась до громоздких гор… “Пустынна степь, покоен воздух, недалеко до гор громоздких, где скроюсь я от произвола твоих всесильных губ и рук”, читала ему из тонкого оранжевого сборничка, пытаясь приучить к поэзии, но боже мой, мужчины и поэзия, смехотворно, две вещи несовместные… не поверил, что появился другой, мужчины этому никогда не верят, им кажется, что они – навсегда, что они могут изменять, оставлять, уходить, унижать, а их должны любить и любить, преданно и смиренно. Дудки! Пенелопа победно усмехнулась.
– Кошку, собаку, мужчину – какая разница! – бросила она надменно. – Главное – тебя я больше не люблю.
Да, больше не люблю, – пропела она мысленно, резко взмахивая красным веером и метя длинным шлейфом черного кружевного платья песок арены… или, наоборот, платье красное, а веер и перчатки черные?.. гордо откидывая голову и презрительно глядя на жалкого и потерянного бывшего героя своего романа, готового кинуть к ее одетым в сверкающие алые туфельки на шпильках ногам свою корпорацию, самолет и стать бандитом или чем она захочет, но нет, ей не нужны его дрянная корпорация и поганый самолетишко, будь что будет, пусть блеснет роковая сталь!.. Мольбы напрасны, я не уступлю…
Но Эдгар-Гарегин не стал обнажать ножа, которого у него и не водилось.
– Подумай, Пенелопа, – сказал он кротко, и Пенелопа с упоением отрезала:
– Не собираюсь.
– И все-таки подумай, – в настойчивости Эдгара-Гарегина Пенелопе почудилась долгожданная угроза, но он миролюбиво закончил: – Я позвоню.
И поднялся, оставив гневную отповедь Пенелопы в ее натруженной гортани, гортани и далее, речь была длинной и змеей сползала по трахее, бронхам, бронхиолам, засунув хвост куда-то в глубину легкого, слишком длинной, чтобы выпалить ее в секунду, а отповедь, произнесенная в спину уходящего мужчины, больше, чем нелепость, это все равно что начать отвечать на экзамене после того, как в зачетку уже вписана двойка.
– А что такое вообще любовь, Пенелопа? – спросил задумчиво владелец “Мерседеса” и прочих благ, выруливая на улицу. – Вот я, например, за все это время ни разу не видел тебя во сне. И вспоминаю не каждый день. И женщин у меня перебывало немало. Но после всякой из них я думаю: с Пенелопой было лучше. Это любовь или нет?
Пенелопа пожала плечами. Поди объясни этому обормоту, что такое любовь. Да и кому вообще это известно. Sister как-то сказала: любовь это когда радуешься, что любимый человек храпит, тогда сквозь сон все время ощущаешь, что он дышит, он жив, с ним ничего не случилось. Нда… Нам бы их заботы. Нам не до подобных тонкостей, в такие психологические изыски можно ударяться, когда человек этот целыми днями валяется рядом, а если он неведомо где, гадаешь только, любит или нет, помнит или забыл. Конечно, если он в опасном месте, задумаешься и о жизни-смерти, никуда не денешься, но дышит или не дышит рядом в постели…
– А потом?
– Потом? – Пенелопа закурила последнего “Пьера Кардена”, скомкала пустую пачку, положила ее в пепельницу, изящно откинулась на спинку кресла, жадно затянулась, вернее, сделала вид, что затягивается, на самом деле, памятуя о своих беззащитных легких, дым она дальше миндалин не пропускала, не миндальничала с ним, скорее, она пускала дым в глаза… дым в глаза, дым столбом, дым коромыслом, гуляй-Вася!.. и небрежно бросила: – Потом он стал неистово целовать мне руки и клясться, что видит меня во сне каждую ночь, вспоминает по десять раз на дню, при любом взгляде на женщину – кинозвезду ли, манекенщицу – говорит себе… – Остальной текст более или менее совпадал с оригиналом.
– И ты поверила? – столь же энергично манипулируя сигаретой, спросила сидевшая напротив лучшая подруга Пенелопы Маргуша.
Откровенно говоря, лучших подруг у Пенелопы хватало, она обладала даром заводить таковых и за свою недлинную жизнь несомненно обросла бы ими, как волнорез скользкими зелеными водорослями, если б не имела заодно и способность время от времени оставлять часть из них в прошлом – величественно проплывая мимо, как лодка минует выпавший за борт спасательный круг: только что, минуту назад, он вальяжно лежал на корме, и вот уже покачивается в отдалении, белым пятнышком на синей воде… Морские метафоры вконец одолели Пенелопу, и ее мысли непроизвольно перескочили к трем подругам, с которыми она много лет назад отдыхала на море, конкретно, в Пицунде… а скорее, к Пицунде, в которой она много лет назад отдыхала с тремя подругами, ведь подруги уходят, а Пицунда остается. Пицунда, где они целыми днями возлежали под гигантскими реликтовыми соснами на огромных грудах хвои, предварительно сгребая ее в кучу с помощью простого, но действенного инструмента, а именно, собственной ноги, и слезали со своих лож для того лишь, чтобы окунуться в синюю полуденную воду и погреться на раскаленном песочке, либо съесть баклажаны или яичницу с помидорами, поджаренные утром и завернутые в позаимствованное тайком хозяйское одеяло, дабы не остыть в лесной прохладе к часу приема пищи до неприемлемости… Прямо, как тут, в Ереване, два года назад, когда газ уже исчез, а керосинки еще не появились, и если свет по графику попадал не на ту половину дня, приходилось паковать кастрюлю с обедом в газеты и одеяла, чтобы сохранить его хотя бы относительно съедобным до момента общего сбора за столом… На море они готовили по очереди, выходило раз в четыре дня, совсем необременительно, даже развлечение, будучи вкраплены черными точечками в белизну праздника, будни бодрят… И где они теперь, эти подружки, оставленные за кормой светлые пятнышки на темной воде? Уплыли, точнее, их подобрали тонущие… тонущие или кандидаты в утопленники? Иной спасательный круг при близком знакомстве оказывается камнем на шею. А иные лучшие подруги отказывают тебе в праве на тайную страстишку жалкого кенигсбергского предпринимателя… Впрочем, это не со зла и не от зависти, просто сдуру, слишком уж Маргуша спокойное существо, неприспособленное к взлетам (и падениям, естественно). И то сказать, трудно нарушить равновесие системы, построенной на столь прочном основании. Спокон веку врачи, и дед, и бабка, и папа, и мама – папу-нейрохирурга исправно дополняет мама-невропатолог, что создает здоровую семью, меньше всего на свете склонную не то что к нервным потрясениям, но даже к крохотной, микроскопической, можно сказать, доле нервозности в домашнем и прочем обиходе. При таких родителях ребенку не остается ничего иного, как, выдержав без всяких треволнений вступительные экзамены – если слово “выдержать”, от которого так и веет нечеловеческими испытаниями, подходит к случаю, когда абитуриент(ка) излагает основы химии или физики приемной комиссии, почти в полном составе и притом неоднократно трапезничавшей в большой гостиной ее, абитуриентки, родного дома, ибо и папа, и мама, давно солидарно преодолев барьер кандидатского минимума (не в смысле сдачи философии и иностранного языка, а в смысле существования в качестве более дальней цели докторского максимума), успешно подвизаются на дружественной кафедре мединститута – итак, выдержав вступительные, а затем все прочие экзамены вплоть до государственных, получить диплом (не красный, кстати, а банальный синий, хотя многие Маргушины сокурсники с родительской и божьей помощью перекрасили свои “корочки” в любимый цвет Маркса) и приступить к работе – кем? Правильно, невропатологом. Интересно, интересно ли, когда вся жизнь просматривается наперед, с начала и до конца? Маргуше предстояло эту жизнь, во всяком случае, допенсионный ее отрезок, проработать невропатологом в месте достаточно престижном, но не чрезмерно ответственном, потихоньку сменяя категории и зарплаты, уменьшая числовое значение первых и повышая – вторых. Защитить диссертацию, по идее, могла бы и она, с помощью не столько божьей, сколько родительской, ибо была не настолько глупа, чтоб не суметь настрочить какую-то несчастную кандидатскую под диктовку папы-доктора, однако же, настолько умной, чтобы претендовать на действительную научную карьеру, уродиться не сумела, опять-таки оказалась не настолько глупа, чтоб этого не понимать, и, в итоге, ей хватило сообразительности не соваться в занудную тягомотину с тематиками, проблематиками, отчетами, подсчетами, статистикой и прочей мистикой, а спокойно работать рядовым ординатором, заполняя круглым, крупным почерком истории болезни, попивая кофе, вскрывая презентуемые пролеченными (придуманное в московских клиниках словечко, очень кстати заменившее изжившее себя понятие “вылеченный”) пациентами коробки ереванских шоколадных конфет “Ассорти” с тем, чтобы извлечь из ассортимента немногие съедобные, отправив остальные прямиком в мусорную корзину, почитывая вместо скучных медицинских книжек романы из “Иностранной литературы”, наконец, периодически рожая детей, для чего предварительно вполне удачно и своевременно выйдя замуж за перспективного журналиста с добротной родословной и надежным семейным тылом типа папа – полковник в отставке, мама – чиновник среднего звена в Совмине и так далее. Собственно, и это просматривалось заранее, еще в школьные годы (а Пенелопа знала Маргушу именно со школьных лет). Конечно, человек со стороны мог бы усомниться в столь ранней зоркости, но Пенелопа поклялась бы – а клясться она обожала, особенно, странными клятвами типа дворянско-офицерского “клянусь честью” или фантастико-гастрономического “если дело примет иной оборот, я съем журнальный (обеденный) столик (диван, кровать, книжный шкаф и т. п., см. спецификацию мебельного гарнитура) – Пенелопа поклялась бы кому угодно и где угодно, что еще в десятом классе вычла на чистом Маргушином лбу начертанные невидимыми знаками основные вехи ее будущего: удачное замужество, деторождение без задержек и осложнений, долгое незамутненное существование в качестве добропорядочной жены и чадолюбивой матери хорошо (в дальнейшем) пристроенных детей, позднее, почтенной матроны, счастливой свекрови, тещи, бабушки…