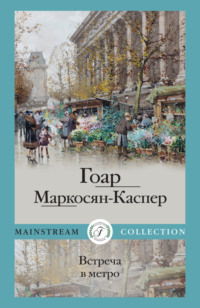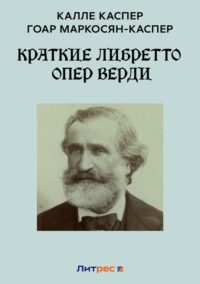Полная версия
Сон и другие мистические истории
Она кружила по безымянному городу всю ночь, и следующую, и еще несколько ночей и не встретила никого. Тем не менее надежда не покидала ее, как не покидала, наверно, всех остальных прохожих или путников, как и прочие, она вновь и вновь бродила по тем же улицам – впрочем, были ли это одни и те же улицы? Может, да, может, нет, Регина не узнавала ни одной и в то же время словно бы узнавала все, настолько они были подобны друг другу. Кончался ли город где-нибудь, как-нибудь, были ли у него окраины или предместья? Неизвестно. Казалось, что зона прогулок ограничена, обведена невидимой чертой, дойдя до которой, против воли сворачиваешь в сторону. Подобное чувство появлялось у Регины несколько раз, однажды она увидела вдали деревья, то ли лес, то ли парк, силилась продолжить путь, но не сумела, проснулась.
Единственный раз город отпустил ее, приснились покрытые ромашками холмы, но когда она протянула руку к цветку, вся пушистая тысячелепестковая масса неожиданно поднялась в воздух, и Регина увидела, что это бабочки, мириады белых бабочек, загородивших солнце и заполнивших небо, оставив внизу сухую серую землю, ощетинившуюся густо, как платяная щетка, множеством бурых безлистных стебельков.
Теперь, просыпаясь, Регина ощущала ту же тоску, которая снедала ее год назад. Мир снова переменился, стал прежним. Если ей случалось бросить взгляд сквозь плохо вымытые стекла на цветущие кусты под окном кабинета или машинально оглядеться по дороге домой, она вдруг замечала, что все вокруг потускнело, даже сирень казалась серой и увядшей, а солнце светило словно через неохватные черные очки. Люди снова перестали ее интересовать, даже собственная дочь была неузнаваема, мечтательность ее выглядела теперь глупостью, а рассеянная созерцательность – ленью. Правда, когда выдали школьные аттестаты – против ожиданий в перечне отметок Анушик оказалась всего одна тройка – Регина сняла с пальца кольцо с полукаратным бриллиантом и протянула ошеломленной щедрым даром дочери, но в душе ее мало что шевельнулось. И хотя она все же ощутила радостное чувство – не тогда, а позже, ночью – радость эта показалась ей вроде бы не своей, а чужой, да она и была чужой, отраженной, ибо после долгого перерыва ей, наконец, приснилось то, главное сновидение: фиолетовое море с его пьянящей водой, и теплый мягкий песок, и островок за протокой, и маленький белый домик, куда много дней назад принес ее на руках Дереник, и сам Дереник. Улыбчивый, счастливый, он сразу заговорил об Анушик, он говорил только об Анушик, так что Регина даже заревновала, ей живо вспомнилась бесконечная череда вечером, проведенных врозь, голоса, долетавшие до нее, в добровольном своем уединении листавшей за письменным столом в спальне очередной ученый трактат, дура, дура!.. Дереник уже знал, но требовал подробностей, жадно выспрашивал об оценках, о предметах, о планах на будущее. Как он радовался, как раскатисто смеялся, а потом предложил отметить событие, принес вина в странном, похожем на чайник, стеклянном кувшине, и Регина выпила целых полстакана. Вино было сладкое, как варенье, пахло то ли клубникой, то ли ананасами, от него у Регины резко закружилась голова, она вроде даже потеряла сознание и, когда очнулась, в смысле проснулась, утром дома, голова продолжала кружиться, и вкус клубники или ананасов нежно щекотал язык. Ей не хотелось идти на работу, но она пошла и механически отбыла рабочий день, потом автоматически жевала, разговаривала, смотрела телевизор, а сама ждала, когда кончится ее краткая ссылка в состояние бодрствования, и можно будет сбежать в сон, на островок в теплом море, где ее ждет Дереник – сегодня она была уверена, что так и будет, и предчувствие не обмануло ее. И снова было легкое, как полет, парение в аметистовой воде, и сильные руки, поднявшие ее в воздух высоко и красиво, как в балете, и расстеленная на полу в домике пушистая шкура неведомого зверя, и любовь, и наслаждение. Но проснувшись, Регина заплакала от бессилия и досады, ибо сон, в волнах которого она нежилась, как в водах моря, обманул ее. Не беззвучный, но бессловесный, он был как немое кино или балет, совершенный, как параджановский «Цвет граната», но в той же степени лишенный диалога. А ей так хотелось поговорить! О чем? Обо всем. О пустяках, быть может. Хотя кто знает, что в этой нелепой, нелогичной жизни пустяк, а что наиважнейшее? Хотелось, к примеру, выспросить, как он в действительности относился к матери, с которой не ссорился и раза в год, а жил в полном, на первый взгляд, согласии, в ответ на совершенно, по мнению Регины, неуместные реплики и если не глуповатые, то простоватые определенно замечания которой только слегка морщился, но советам не следовал никогда, не отвергая, однако, их публично, а словно осторожно обходя, как обходят случайно попавшие на дорогу посторонние предметы. Или к становившейся все монументальнее сестре, на днях навестившей мать в джинсовой юбке, почти лопавшейся на туго обтянутой необъятной заднице, и какой-то немыслимой майке, разукрашенной поддельными монетами и бубенчиками, при каждом шаге позвякивавшими и побрякивавшими на широкой, как теннисный корт, груди, словно на шее у пощипывающей на лугу травку коровы – она и жевала, как корова, непрестанно двигая челюстями и энергично перекатывая во рту неизменную американскую жвачку. А к Анушик? Рассеянность дочери, ощущение постоянного ее пребывания в своем, изолированном от материнского, мире смущали Регину, но определенного отношения к этой неконтакности так и не сложилось, она не могла решить, пытаться ли ей вторгнуться в чужое пространство или принять его, как данность. Хотелось ли ей переложить бремя решения на другого? Ее мучила потребность знать, как отнесся бы Дереник к «хождению на площадь» – хождению не только Анушик, но и всенародному, как он вообще отнесся бы к площади как таковой, как символу, площади, олицетворявшей процесс пробуждения нации независимо от того, был ли вход на ее окольцованные сквером несколько тысяч квадратных метров свободен или перегорожен танками, происходило там какое-либо действо или нет, как отнесся бы он к самому этому процессу пробуждения нации, столь же бурно и поглощенно, как другие, или спокойно, как она. И странно, ее трезвый ум не утратил способности к анализу, в сущности, она сохраняла понимание того, что новый Дереник, обнимавший ее так, как никогда не умел прежний, всего лишь сновидение, конструкция, созданная ее воображением, эхо, способное только повторять, или зеркало, единственно умевшее отражать ее воспоминания, ее желания, ее знание и незнание, ее самое. Но понимание это удивительным образом уживалось с неистовой надеждой на ошибку, на нечто, находящееся за пределами этого понимания, на чудо, наконец. Но чуда не случалось. Еще раз повторилось немое кино или балет, еще и еще, всего трижды, это Регина помнила точно, потом на несколько дней в сны вторгся город башенок, дополненный одной, зацепившей ее внимание деталью – нечаянно, а может, и преднамеренно, движимая неким подсознательным импульсом, она задержалась на пару мгновений на помосте, с которого неизменно начиналось ее путешествие в город, осмотрелась, и ей показалось, что далеко за строениями блеснула на солнце тоненькая фиолетовая полосочка, то ли море, то ли обращенная в море игрой ее тоскующего воображения облачная гряда или просто лиловеющая от отдаленности равнина.
А потом случилось странное происшествие.
Напуганная нахально кружившей по комнате молью Регина, наконец, занялась вот уже месяц планируемой назавтра и неизменно переносившейся на более поздние сроки уборкой гардероба, сложила теплые вещи, пересыпала их дефицитным нафталином, который предпочитала всем модным, но бесполезным штучкам, стала извлекать на свет божий летние блузки и платья, и когда дошла до самого низа, пальцы ее наткнулись на сложенный вдвое пустой полиэтиленовый пакет. Вынув по непонятной причине запрятанный столь глубоко тонкий, изукрашенный надписями и геометрическими фигурами иностранный мешочек, она еще некоторое время рассматривала разноцветные буквы и линии, пока ее не осенило. Сарафанчик! Определенно, здесь лежал сарафанчик. Ну и куда подевался? Конечно же, его обнаружила Анушик, обнаружила и взяла без спроса, бессовестная девчонка! Возмущаясь подобным образом, Регина совершенно игнорировала то хорошо известное ей обстоятельство, что у удивительно щепетильной для столь нежного возраста ее дочери никогда не водилось привычки лазить по шкафам и брать чужие вещи, будь то даже давно забытые тряпки. Но призванная пред материнские очи и строго допрошенная Анушик напрочь отрицала свое касательство к исчезновению «нового летнего платья» матери. Тогда Регина перерыла не только весь гардероб, но всю спальню, включая запихнутые под кровати (они так и стояли – обе, крупные, широкие, ненужно загромождавшие середину комнаты, но разобрать одну и хотя бы вынести на веранду не поднималась рука) туго набитые чемоданы с Анушикиным приданым, по мелочам собираемым уже лет десять, а также трюмо, тумбочки, ящики письменного стола и книжный шкаф, но устроенный в помещении форменный погром оказался бесплодным, он не привнес ни ясности в ситуацию, ни успокоения в смятенную более, чем когда-либо, душу Регины. Это смятение проникло даже в сон, где Регину преследовали необъяснимая нервозность, непонятное беспокойство – а между тем, ей приснился в ту ночь островок, и Дереник был рядом. Правда, она так и не задала ему ни единого вопроса, они просто молча сидели на пляже, глядя на игру сверкающих солнечных бликов на яркой густолиловой воде. Погода была необычайно холодной, и Регина даже не сняла сарафанчик.
Утром сразу после завтрака – занятия закончились, и выходить из дому не было никакой необходимости – Регина принялась устранять следы вчерашнего повального обыска, и каково же было ее изумление, когда задвигая оставленные вчера наполовину выдвинутыми ящики письменного стола, она обнаружила в одном из них, а именно в том, куда впопыхах сунула злополучный пакет – нет, не змею или ежа, а все тот же пакет, но уже не пустой. Она вынула его вначале машинально, встряхнула, но когда на пол, шурша и извиваясь, потекла блестящая ткань, Регина отскочила так же, как отскочила бы от змеи. Первым возник импульс немедленно позвать Анушик и предъявить ей вещественное доказательство вероломства… но могла ли девочка успеть подложить сарафанчик обратно за те коротенькие промежутки времени, когда мать была в ванной или на кухне? Да еще и найти мешочек в необычном месте? И вообще Регина уже забыла про Анушик, новая мысль завладела ее истерзанным разумом: вчера она не раздевалась во сне, да, точно, когда сон оборвался, сарафан был на ней. А значит? Ошеломленная безумной догадкой она села прямо на ковер рядом с соскользнувшим на него нарядом, который в эту минуту казался ей омерзительной тряпкой, и обессиленная, прислонилась к сдвинутой с места кровати.
Следующие несколько дней прошли под знаком нетерпеливого, если не невыносимого ожидания. Регине с ее логичным умом и навыками исследователя не терпелось поставить хорошо обдуманный решающий эксперимент, но увы, она не могла этого сделать без помощи, более того, осознанного соучастия второй своей ипостаси – той, другой Регины, из снов, если, конечно, вторая Регина вообще годилась в соучастницы. Проверить это не удавалось, как назло, сны пошли наперекосяк, то она попадала в ромашковые холмы, то раз за разом в город «вечного движения». Однажды, впрочем, движение замерло, вернее, приостановилось, это когда ей случилось спуститься в подвальчик или, скорее, погребок, винный погребок, где за низкими квадратными столами, накрытыми скатертями в мелкую сине-белую клеточку, точь-в-точь как занавески на ее кухонном окне, сидели на грубых стульях из неполированного светлого дерева молчаливые мужчины, почему-то в большинстве своем бородатые, и отдельно, в другом конце зальчика, худые, с усталыми лицами, не первой молодости женщины и пили из высоких шестигранных стаканов темный напиток. Регина тоже села за стол, и элегантный официант в белом фраке и с гастуком бабочкой, тоже белым, поставил перед ней полный стакан и протянул серебряный подносик, на который она небрежно кинула подпрыгнувший с негодующим звоном золотой червонец, из тех, что достались ей от матери, а той от бабушки. Когда она поднесла стакан к губам, знакомый клубнично-ананасовый аромат ударил ей в нос и опьянил еще до того, как она пригубила вино.
Когда ей, наконец, приснился знакомый уже до боли берег, оказалось, что погода изменилась. Осень ли близилась, или волнение на море и сумятица в небесах отражали внутреннее состояние самой Регины, но солнце почти не появлялось, загустевшие, как ежевичный мусс, облака, пусть и расплываясь местами до полупрозрачности, не позволяли тем не менее небу хотя бы наполовину вырваться из-под мрачного серо-сиреневатого покрова, холодный ветерок почти не стихал, и Регина вторая, или Регина ночная, как про себя окрестила ее первая, главная Регина, не купалась и не загорала и за целую неделю ни разу не покинула сон без сарафанчика, и это огорчало Регину первую чуть ли не больше, чем зловредная насмешка случая, а может, провидения, ночь за ночью забрасывавшего ее на такое отдаление от заветного островка, которое не под силу было б одолеть и эфиопскому марафонцу, не то что сорокалетней женщине с безвольным, никогда не ведавшим физических упражнений телом. Как ни парадоксально, но дурацкая, в общем-то, история с сарафаном занимала ее мысли больше, чем разлука с Дереником. Интуиция ли заставляла ее придавать чрезмерное значение пустяковой пропаже, или то был простой каприз женской натуры, но просыпаясь, Регина огорченно стискивала руки и так же сжимала их перед сном, пытаясь внушить самой себе импульс включиться в эксперимент, для чего надо было раздеться и остаться до конца сна обнаженной. Однако, для подобного содействия Регина вторая, видимо, должна была осознать, что происходящее с ней всего лишь сон, чего в ее ощущениях не присутствовало и тени. Понимала ли она вполне хотя бы то, что Дереник, в объятьях которого она провела не одну счастливую ночь, умер больше года назад? Вряд ли. Скорее нет, чем да. Так думала Регина первая, но утверждать что-либо наверняка не отваживалась, ибо моментами у нее возникало странное чувство дистациирования от самой себя – той, ночной, иногда ей даже казалось, что отрывочное и бессистемное самосознание той Регины обладает определенной самостоятельностью, и потому, что известно, и чего не известно ее второй ипостаси, ей, первой, было неведомо.
Так прошло семь или восемь дней, и вдруг, заснув после обеда, чего с ней не случалось неизмеримо давно, со времен той, первой жизни, до смерти мужа, Регина очутилась на острове не днем, как обычно, а ночью или, по крайней мере, поздним вечером. В чернильно-черной темноте светилось единственное большое с частым переплетом окно. С непривычной робостью Регина толкнула незапертую дверь и остановилась на пороге. Дереник сидел в низком кресле в двух шагах от нее и читал, на легкий, как дуновение, скрип двери он поднял голову, увидел Регину и встал, книга, о которой он словно сразу забыл, соскользнула с его колен и, протяжно прошелестев тугими страницами из толстой глянцевой бумаги, упала к ногам Регины. Присев на корточки, Регина подняла узкий, удлиненный томик, заглянула – ей бросились в глаза ряды причудливых значков, не похожих ни на какие из знакомых ей букв, даже на китайские иероглифы, книга была на неведомом языке, что почему-то несказанно встревожило ее. На каком языке ты читаешь? – хотела уже спросить она, но Дереник, опустившись на колени рядом с ней, отобрал книгу, бросил в кресло, а потом обнял Регину, стал целовать, и она промолчала, хотя непонятная тревога продолжала биться в глубине ее сознания, как залетевшая ненароком в окно бабочка.
Проснувшись – после тяжелого дневного сна все тело было в испарине, голова как в тумане – Регина отчетливо вспомнила конец сна, похожий на последний кадр фильма: долго-долго маячивший перед глазами покрытый серебристым пластиком пол, на котором распростерся заветный сарафанчик. Забыв о головной боли, Регина вскочила, кинулась к письменному столу, в ящик которого упрятала сарафан, подергала за ручку, запамятовав, что заперто, потом вспомнила, достала надежно спрятанный ключ, открыла, сунула руку. Пакет лежал там, свернутый в ком и пустой. Пустой! На секунду Регина возликовала – теперь она знала. Возликовала, и тут же одернула себя. Знала – что? Что она могла знать? Что сарафанчик остался там, во сне? Да полноте! Уж не сошла ли она с ума? Наверняка есть другое объяснение, логичное, нормальное, без всякой мистики, какая-то непросчитываемая ею закономерность. Она стала поспешно убеждать себя в этом, и однако, подсознательно ощущала, что прикоснулась к новому, неведомому ей прежде знанию и угадывала в этом знании некую грозную силу, хотя природу этой силы пока не понимала.
Между тем, с торопливым течением дней погода на сиреневом море все более напоминала осеннюю, вода стала потихоньку остывать, послеобеденная жара спала, и ранние сумерки быстро переходили уже не в прохладные, а холодные вечера. Регине перепало несколько таких разрозненных, разбросанных по канве сновидений вечеров, когда глубокая, не просветляемая ни единым отблеском темнота заставала ее на островке. Дереник разводил костер, и они часами – Регина в широкой брезентовой куртке мужа, накинутой на зябкие плечи – просиживали у огня, то ли греясь, то ли просто глядя, завороженные, на игру пламени, как маленькие глупые кролики, которые жмутся к земле, зачарованные сверкающей змеей с холодными, как бриллианты, глазами. Просиживали молча или изредка обмениваясь ничего не значащими словами – это полумолчание вдвоем, которое Регине так и не удалось нарушить, уже не тяготило ее, она научилась находить своеобразную прелесть в этом безмолвном общении, даже дорожила им, тем более, что в последнее время сны стали сниться ей реже, не каждую ночь – обстоятельство, смущавшее и пугавшее ее.
Наконец, наступил день, когда ветер уронил к ногам Регины оранжево-желтый, причудливо вырезанный лист. Регина закинула голову, посмотрела в высоко поднятые ветви и увидела, что лес порыжел. И почти сразу – она и не успела привыкнуть к огненно-яркой рыжине – листья стали темнеть, еще одно-два появления на берегу, и лес оказался каштаново-коричневым, лишь кое-где проглядывали рыже-желтые ветки, точь-в-точь кокетка, обесцветившая по последней моде волосы отдельными прядями.
И вот Дереник принес к костру два больших бокала, до краев налитые красивым, вишневого оттенка вином, и сказал, печально глядя на Регину своими большими глазами:
– Лето кончилось. Пора возвращаться.
– Куда? – пролепетала Регина, напуганная этой печалью, и он коротко ответил:
– В город.
– Город? – собственный голос показался ей эхом. – Какой город? Тут есть город?
– Есть, – уронил он сумрачно, и у нее возникло мимолетное подозрение, что ему не нравится этот город, то ли непривлекателен сам по себе, то ли проигрывает в сравнении с островком и вольной жизнью, но она не стала расспрашивать, какой-то инстинкт заторопил ее, погнал дальше, мимо.
– А я? Как же я? Ты возьмешь меня с собой?
– Я не могу взять тебя с собой, – возразил он.
– Почему?
– Не могу.
Это «не могу» прозвучало, как положение, не требующее доказательств, и Регина вдруг поняла, что так оно и есть, но отступать без сопротивления было не в ее натуре, и она спросила дрогнувшим голосом:
– А здесь? Здесь ты мог? Ты же взял меня сюда.
– Я? Нет. Ты пришла сама, – снова возразил он, и Регина растерялась. Она ощущала в происходящем некую логику, но логика эта была ей совершенно непонятна, более того, казалась непостижимой, и эта непостижимость мучила ее, она старалась проникнуть в суть событий, ее слепая мысль металась и тыкалась в неодолимую преграду, отступала и вновь ползла вперед, как щенок, находя дорогу чутьем, в сознании ее возник и ширился, заполняя его целиком, сложный образ, главной составляющей которого был мрак, всеобъемлющий мрак, впрочем, не сплошной, а лоскутный, скопление множества мечущихся, перекрывающих друг друга теней, а где-то там вдали чистый и ровный свет, подобие восходящего солнца, и она сама, рвущаяся к этому свету, но вязнущая, как в паутине, в сплетении тянущихся во все стороны, пересекающихся, опутывающих ее слабое, с неразвитыми мышцами тело противных липких нитей. И все же она рвалась и билась, напрягая все свои ничтожные силы, и внезапно что-то словно с треском лопнуло, разошлось по швам, и свет стал расходиться сияющими лучами, неудержимо заливая ее измученное сознание.
И тут Дереник, как будто следивший за этой безмолвной борьбой и увидевший, чем она завершилась, торопливо сказал:
– Анушик! Не забывай об Анушик.
Регина смотела спокойно, вроде бы не понимая, но видела, как беспомощно он опустил взметнувшиеся было в умоляющем жесте руки, и отвернулась, пытаясь скрыть охватившее ее горькое чувство.
Почти весь следующий день она просидела на диване, неподвижная и молчаливая, только несколько раз, неслышно ступая, подходила к неплотно прикрытой двери в комнату дочери, заглядывала в узкий просвет, в который видны были худенькие плечики склонившейся над письменным столом Анушик и пушистый, в мелких кудряшках затылок – заглядывала и закрывала глаза, и к горлу подступали то нестерпимая нежность, то мучительная горечь.
В ту ночь она спала без снов. Потом еще одну ночь, и еще. А на четвертый день, в два часа пополудни – Регина запомнила время, сама не понимая, почему, видимо, очень уж торжественным было лицо у Анушик, когда она вошла к матери и осторожно, но наглухо закрыла за собой дверь – на четвертый день, загадочная, как богиня судьбы, пришла дочь и, прижимая обеими руками предательски пылающие щеки, пролепетала, глядя в пол:
– Я хочу тебе сказать, мама… Я… У нас в школе был один мальчик… Он теперь перешел на третий курс… В политехническом… Можно, я позову его к нам? Он хочет с тобой познакомиться…
Регина молчала, у нее было чувство, что она стоит на хрупком деревянном мостике, перекинутом через неизмеримо глубокую пропасть, на дне которой, далеко-далеко визу, грохочет, ворочая валуны, грязно-бурый поток, и доски мостика трещат и надламываются под ее легкими ногами, но скинуть охватившее ее оцепенение и побежать она не в силах.
Анушик вдруг взметнула потупленный взгляд вверх, на мать, и отчаянно крикнула, словно боясь, что ее не расслышат:
– Я хочу выйти замуж!
И мостик разломился надвое, и Регина, несильно взмахнув руками, полетела вниз, к далекой беспощадной воде.
Регина бежала. Бежала, задыхаясь, спотыкаясь, увязая в холодном песке – как назло, она угодила не на островок или хотя бы куда-то поблизости, а на дальний край мыса, протягивавшего к островку длинную, как щупальце осьминога, оконечность, а до захода солнца оставалось не так много, и надо было спешить. Спешить, чтобы не опоздать. Куда? Этого она не знала, но опоздание, случись оно, оказалось бы непоправимо, и потому сердце ее тревожно колотилось не только от безумного бега по зажатой между лесом и морем полосе песка.
Добежав до протоки, отделявшей мыс от островка, она заметалась на песке, надрываясь в крике, но противоположный берег не ответил ни звуком, ни движением. Не в силах поверить, что случилось самое страшное, она всматривалась и всматривалась сначала в наползающие на скалы оранжево-шоколадные кусты, а потом в море – до слез, до боли в глазах, и разглядела-таки медленно удалявшееся светлое пятнышко, слабо, но все же выделявшееся на беспокойной, испещренной белыми извилистыми полосочками пены сочно-фиолетовой, как школьные чернила ее детства, воде. Тогда она заметалась снова, беспорядочно выкрикивая что-то бессвязное, рванулась к кромке берега, но пятнышко продолжало удаляться, и в какой-то миг Регина с изумлением поняла, что бежит по нервно всплескивающейся поверхности моря. Голыми подошвами она ощущала под ногами нечто холодное и эластичное, как резина, и это нечто слегка прогибалось при каждом шаге, что вынуждало ее быстро выбрасывать вперед ставшие уже ватными от усталости ноги. Но зато она догоняла, еще немного, и пятнышко превратилось в небольшую лодку, она ясно видела теперь Дереника, который сидел на веслах и с явным усилием, точно преодолевая какое-то сопротивление, греб. Последние несколько шагов или прыжков, и Регина впорхнула в лодку, повалилась на носовое сидение, единственно свободное от картин – лодка была завалена картинами, не акварелями, а холстами, натянутыми на деревянные рамы, что несказанно удивило Регину, ни разу за это время не застававшую Дереника за работой – повалилась, уцепилась за борта, и лодка вдруг стремительно, легко и свободно понеслась вперед.
Уже смеркалось, когда маленькое суденышко уткнулось носом в песчаный берег по ту сторону залива. Регина влезла на деревянное сидение и застыла, не отваживаясь, непонятно почему, переступить через невысокий борт. Дереник спрыгнул на песок и протянул Регине руку, и тогда она оперлась на эту руку и решительно сошла на берег. Дереник повел ее прочь, даже не обернувшись напоследок в сторону моря, не бросив и взгляда на кучу беспорядочно наваленных картин, не обернулась и Регина, только спросила: