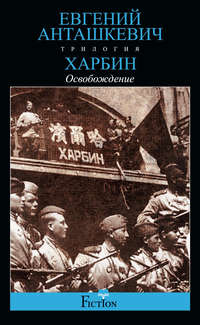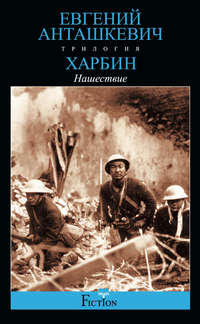Полная версия
Харбин
Он отстёгивал цепочку нарочито медленно, не глядя на хозяина, и внимательно осматривал лавку. Он не ошибся, на полках было действительно тесно от фарфоровых и мраморных каминных часов, бронзовых настольных ламп, скульптурных фигурок из металла и камня, под стеклом лежали ордена с драгоценными камнями, целая коллекция хронометров, наградное оружие, одна витрина была полна женских украшений. Александр Петрович смотрел и понимал, что всё, что он сейчас видит, было продано за гроши, ради куска хлеба и нужды – такой же, как у них с Тельновым, – купить билеты. Наконец он отстегнул цепочку, положил часы в карман и увидел, как китаец проследил за его рукой.
Тельнов, крутившийся всё это время по лавке и внимательно разглядывавший витрины, стал подходить ближе и присматриваться к молчаливому диалогу Адельберга с китайцем, и вдруг заорал на китайца:
– Что, сволочь косоглазая, награбили? У нищих людей понаотбирали? Мало вам?
Александр Петрович, хозяин лавки и мальчик удивлённо посмотрели на Тельнова. Адельберг ухватил его за плечи и вытолкал из лавки.
– Дуй бу ци! – извинился он за своего спутника. – Та хэнь эла! – Он хотел сказать «Он очень злой», но получилось «Он очень голодный».
Мальчик скривил лицо, собираясь заплакать, хозяин посмотрел на него и потрепал по волосам.
– Племяника мала-мала пугайся, – неожиданно по-русски сказал китаец и дал ему сахарную палочку: – Кане́сына голо́ный! Ся́са фсе голо́ный! Моя цепо́цка не на́да, моя цясы́ хоцю́!
Александр Петрович в упор посмотрел на хозяина лавки:
– Зачем?
– Моя цясы хоцю, цепо́цика не хоцю!
– У тебя в лавке часов много, зачем тебе эти? – со злобой произнёс Александр Петрович. Китаец почему-то казался ему знакомым, но он не мог его вспомнить, и это злило. Злило упрямство хозяина лавки, которое было вовсе не ко времени, на вокзале было много русских беженцев, большинство из них без средств, и они жили в душных, переполненных железнодорожных вагонах. Сейчас деньги нужны, чтобы купить билеты в приличный вагон в отдельное купе, чтобы можно было отдохнуть и привести себя в порядок – после такой разлуки Александр Петрович не мог себе позволить приехать небритым, пыльным и вонючим. Он посмотрел на китайца и с вызовом бросил цепочку на прилавок. Китаец вроде испугался или только сделал вид, но цепочку взял и положил на аптекарские весы.
– Цясы холо́сы! Цепоцика дзе́ньги ма́ло!
– Давай сколько дашь!
Хозяин смахнул цепочку в ящик прилавка и вытащил серый ворох денег. Купюры были мятые, скомканные и мелкие. Мальчик протянул руку к деньгам, но хозяин лавки, видимо его дядька, мягко отвёл его руку, и мальчик снова состроил гримасу.
«Бойкая торговля, даже разглаживать не успевает!» – подумал Адельберг про деньги и спросил:
– Как его зовут? – Он кивнул в сторону мальчика.
– Ся́о па́ньцзы – Чжан!
Адельберг потрепал мальчишку по волосам и сказал:
– Хороший маленький толстенький Чжан.
Мальчик заулыбался и протянул ему свою сахарную палочку, потом показал рукой в сторону двери и сказал:
– Плохой!
Александр Петрович с облегчением вышел из лавки. «Плохой» Кузьма Ильич стоял у двери с виноватым видом, но в глазах у него ещё прыгали искорки злобы.
Александр Петрович подошёл и примирительным тоном сказал:
– Так-то, уважаемый Кузьма Ильич! Мы сторона проигравшая, поэтому вести себя будем прилично.
Тельнов мотнул головой.
Однако денег на билеты хватило, китаец дал даже больше, чем предполагалось.
«Ничего не понимаю, на вес, что ли, деньги мерил, жменями?»
Глава 7
Он смотрел в темноту за окном вагона и думал, что не так он представлял себе возвращение домой.
Вдруг припомнилось детство, маленькая каменная Митава, горбатые булыжные мостовые, высокие шпили кирхи Святой Анны, приземистый, тяжёлый герцогский дворец, зимние туманы и мягкие шлепки копыт по опилкам в манеже, где занимались выездкой офицеры лейб-гвардии Литовского полка; высоченные лоснящиеся кони, как будто сделанные из бархата. Ему было четыре года, когда его отец поручик Пётр Фёдорович барон фон Адельберг из-за болезни глаз оставил службу, и они из Митавы переехали в Москву в дом мамы – Екатерины Михайловны Исаковой – в Трёхпрудный переулок. Вспомнился кадетский корпус, 2-й Московский, и отец в мундире и с орденами, когда они пришли в Екатерининские казармы. Перед тем как выйти из дому, матушка долго и пытливо осматривала его и одёргивала узкий кадетский мундирчик, потом перекрестила и поцеловала в обе щеки.
«Мамины руки!»
Он усмехнулся, вспомнив, что в корпусе кадеты за курляндское происхождение за глаза прозвали его Чухонцем, однако вслух такого не произносили. В младших классах это обижало, а в старших он привык и перестал обращать внимание. Он решил служить в военной службе, это было как бы само собой разумеющееся и все увлечения под стать: военные дисциплины, фехтование, гимнастика. Он кончил корпус по высшему разряду и зачислился в младший класс юнкером 2-й роты Александровского военного училища. Ему всегда нравилось учиться; он гордился своим сословием и с шиком носил военную форму; его много раз поощряли за успешную стрельбу и при переходе в старший класс вручили приз за образцовое решение экзаменационной задачи по тактике…
Александр Петрович смотрел в окно и улыбался; стала проходить засевшая в душе тревога.
Всю жизнь, сколько себя помнил, он старался держаться независимо: особо ни с кем не сближался, но и в помощи не отказывал. Кадетское прозвище Чухонец постепенно забылось, и появилось другое – Патрон, и он был не против. Как-то в библиотеке Офицерского собрания Московского военного округа в руки попался труд древнего китайского теоретика военного искусства Суньцзы – это было интересно, а потом пригодилось…
Тельнов, поначалу спавший тихо, как ребёнок, стал похрапывать и отвлекать, Александр Петрович потряс его за плечо, тот что-то пробормотал и затих.
Училище окончил в числе лучших, получил право выбора и начал службу в лейб-гвардии его величества Егерском полку в Санкт-Петербурге. Сначала квартировал у дяди Вальдемара, бывшего псковского вице-губернатора, в большом доме на углу Тверской и Таврической, с мощной круглой угловой башней. Дядя Вальдемар с супругой занимали большую квартиру в половину третьего этажа и ему, своему племяннику, единственному наследнику древнего прусского рода, были рады. Однако там было шумно, потому что двумя этажами выше поселился известный всему Петербургу профессор классической филологии Ива́нов со своей женой писательницей Зиновьевой-Аннибал, и их квартиру посещала вся столичная богема: Мережковский, Гиппиус, Философов, бывал Блок. Гостей собиралось помногу, до сотни человек, они занимались, по моде того времени, спиритизмом, а ночью выходили на башню, которую так и называли Башней Ива́нова, читали стихи, и только под утро, возбуждённые общением и шампанским, разъезжались. Всегда было шумно и без всякого почтения к соседям.
«Да-а! Задала им как-то тётушка перцу!»
Жена дяди Вальдемара в одну из особенно бурных ночей вызвала полицейских. Те нагрянули для проверки документов, и по всему Петербургу был скандал, потому что Иванов заявил, что полицейские чины украли шапку у кого-то из его гостей. Шапка потом конечно же нашлась.
А через полгода он съехал на полковые квартиры – не так роскошно, но ближе к службе, тем более что неподалёку стояли семёновцы, измайловцы и лейб-атаманцы.
Служба захватила. Его егеря отличались от остальных гвардейцев: от преображенцев – архангельских и вологодских белобрысых увальней или от красавцев-брюнетов, которых набирали в Измайловский полк. У него в строю были охотники из брянских и смоленских лесов, воронежские степняки, обкладывавшие волчьи стаи, новгородские медвежатники, люди основательные и степенные. Они молодого офицера сначала приняли с прохладцей, мол, много тут командовало, но после первых учений, стрельб и ночных вылазок стали называть его «наш Петрович»…
«Было вполне даже симпатично!» Александр Петрович покачивался, сидя на полке, и растворялся в темноте ночи и уходящих в прошлое воспоминаниях.
Своего полкового командира, как поговаривали, его дальнего родственника и придворного аристократа, он видел нечасто, а вот заместитель – князь Фицхелауров с медалью «За поход в Китай» – оказался человеком интересным. В конце 1904 года именно он дал ход его рапорту об откомандировании на Маньчжурский театр военных действий в распоряжение генерала Линевича – в 1-ю Маньчжурскую армию.
«Командир Корнилов, потом командир Мартынов! Однако это уже не детство, уважаемый Александр Петрович!» – сказал он сам себе и попытался протереть рукавом оконное стекло, однако дело было не в стекле, просто была очень тёмная ночь.
Поезд набрал скорость, сон брал своё, но каждый раз отступал, когда возвращалась мысль о том, что будет завтра, вернее, уже сегодня.
«Анна!»
Александр Петрович заёрзал.
Поручик барон фон Адельберг впервые увидел свою будущую жену Анну Ксаверьевну Радецкую за кулисами.
Он быстро влился в столичное общество: театры, актрисы, кулисы, это было обычно для людей его круга. В нём угадывалась блестящая карьера – ветеран Японской кампании, георгиевский кавалер. Анна, тогда ещё толькотолько выпускница балетного класса Михаила Фокина, очень красивая девушка, мечтала о карьере в Мариинском театре, но родители искали хорошей партии и о балете запретили думать, правда, она выговорила себе привилегию – иногда посетить репетицию или спектакль, иной раз и без маменьки, а гувернантку она отпускала. Часто «по-свойски» она бывала за сценой, где после спектакля происходило самое интересное: туда врывалась петербуржская золотая молодежь. Как ветер, молодые люди неслись по коридорам к гримёрным с корзинами шампанского, с букетами цветов. Заигрывали со всеми подряд, с кордебалетом, молодыми выпускницами балетных классов, в глазах которых ещё не было опыта и расчёта, была искренность, мечта о счастье, и кому-то везло. Это видели и любовались, и грим не мог скрыть румянца. Так оживала сказка о принце и Золушке. Принцев делили на красивых, богатых и шумных – красивых было много, богатых тоже, а самыми шумными слыли гвардейцы его величества Измайловского и Московского полков.
От своих товарищей он отличался тем, что чаще был молчалив, на всё смотрел спокойными глазами, шутил иронично и остро́. Почему-то от него ждали чего-нибудь циничного, но этого не бывало. Уходил не один, но ни разу с одной и той же. Интриговало то, что барышни, уезжавшие с ним, потом никому ничего не рассказывали.
И она его заметила.
В тот вечер давали «Баядерку». Он опоздал к началу и пришёл в середине первого акта, когда Раджа представлял Соло́ру красавицу дочь – Гамзатти. Александр Петрович не пошёл на своё место в девятом ряду партера, он не любил, когда на него шипят, оглядываются и готовы сделать замечание. Он остался в проходе под ложей бенуара, почти у самой сцены, но долго не мог сосредоточиться, потому что, когда шёл к двери в партер, в самом конце коридора увидел её, уходящей за сцену.
После спектакля она выходила из театра через служебный подъезд, увидела и сразу узнала этого высокого молчаливого молодого гвардейского офицера. Он стоял на мокром, уже опустевшем тротуаре и кого-то ждал. Она невольно оглянулась и подумала, что за ней, должно быть, выходит кто-нибудь из её подруг-балерин, кого он мог бы ожидать, – но за спиной никого не было.
Потом Александру очень нравилось, когда Анна вспоминала об их знакомстве, о том, что она тогда подумала, что, «должно быть, большая кокетка та, которую он так долго ждёт». Однако когда она ступила на тротуар, то увидела, что он направляется к ней. Он с лёгким поклоном, молча протянул букет, даже не букет, а букетик весенних белых подснежников, она так же молча приняла, но недоумение её переполняло. Он поднял руку, и из темноты со стороны Офицерского моста громыхнул подковами лихач, и только после того, как он громко сказал кучеру её домашний адрес, она вдруг очнулась, а он этого ждал.
– Уже поздно, Анна Ксаверьевна, вы выходили последняя, одна… Разрешите мне сопроводить вас домой.
Она тогда не сумела ответить, он опередил её вопросы, поступил, конечно, бестактно, поскольку их друг другу никто не представил и не знакомил, и ему… «ему никто не давал права…», «и даже повода!», и вдруг – и здесь Анна всегда смеялась – она подумала: «Хорошо, что я вышла последняя и никто этого не видел».
С того самого момента, когда она приняла цветы, она испытывала непривычное ощущение, и в её глазах всё тихо плыло. Он сидел рядом, молча смотрел в спину извозчика и только придерживал полость, которой были закрыты её и его ноги. Ледяной ноябрьский ветер мотал голые ветки деревьев, обрушивался на фонари и ледяным языком облизывал незащищённые лица. Она искоса поглядывала на него и только старалась глубже втянуться в воротник, а он сидел прямо и, казалось, совсем не чувствовал холода. Вдруг она вспомнила, что держит в руках весенние подснежники, он как будто бы услышал её, чуть нагнулся, достал откуда-то из-под сиденья и протянул маленькую, как сам букетик, картонную коробку. Тогда Анна спросила:
– Вам нравится «Баядерка»?
– Да!
– А что именно?
– Танец Теней.
– Почему?
– Я думаю, что они будут сопровождать меня всю жизнь, – пошутил он.
Анна заглянула ему в глаза, а он уже смотрел на неё – очень серьёзно. На секунду ей стало страшно, но она тут же почувствовала, как отчего-то на душе стало легко.
После венчания они снимали квартиру прямо напротив его полковых казарм, а в конце 1910 года один из его бывших командиров по Японской кампании генерал Евгений Иванович Мартынов получил назначение на должность командующего Отдельным Заамурским округом пограничной стражи, охранявшим полосу отчуждения КВЖД, и предложил возглавить отдел агентурной разведки 1-й бригады. Так после Японской кампании он во второй раз оказался в Маньчжурии и в Харбин приехал уже с женой.
Им хватило двух месяцев, чтобы забыть про Петербург. Мерзкий харбинский климат был лучше, чем мерзкий петербуржский, жизнь молодого города была такой же бурной, как их молодость. Однако Мартынова неожиданно откомандировали, когда он схватил за руку нескольких генералов-казнокрадов. Евгений Иванович предложил Адельбергу последовать за ним к новому месту службы, однако Александр Петрович отказался. На это у него были причины: Анна любила его, но ревновала к прежним интрижкам, поэтому им обоим было во благо на какое-то время остаться в Харбине́. Тогда, при прощании, Мартынов подарил ему хронометр с орлами.
Он покинул Харбин в сентябре 1914 года, и на перроне Анна тихо ему прошептала: «Возвращайся!» Он кивнул и вскочил на подножку уже дрогнувшего вагона, а потом много раз вспоминал этот её наказ. Накануне Александр Петрович получил в штабе казённый пакет с предписанием отбыть фронт.
От их дома на Разъезжей улице до вокзала ехать было совсем недалеко – через несколько сотен шагов площадь и Свято-Николаевский собор и чуть дальше под горку по Вокзальному проспекту – вокзал. Ни по дороге на вокзал, ни на перроне они почти не говорили, всё было сказано прошедшей ночью. В коляске извозчика он искоса поглядывал на неё, она сидела сосредоточенная и только иногда покусывала припухшие губы…
«Вот я и возвращаюсь!» – глядя в тёмное окно, думал Александр Петрович.
Он нащупал в кармане пиджака её последнее письмо с фотографической карточкой сына. Анна писала много, в одном из писем она описала, как в апреле пятнадцатого года заамурцы уходили на германскую войну; она написала о том, что город как будто бы сошёл с ума: улицы, ведущие к вокзалу, заполнились людьми, извозчиками, рикшами, и воинские колонны с трудом проходили сквозь густые толпы; с военными прощались даже китайцы и вели себя как русские – плакали. С особым вдохновением Анна описывала, как махали цветами, кричали, размазывали по щекам слёзы, а за солдатами вдоль колонн бежали дети, и конные подхватывали их, усаживали перед собой в сёдла, а потом спускали на руки к чужим людям, и казалось, что в те дни в городе чужих нет.
Она писала подробно, и всё, что она описывала, он видел как будто бы собственными глазами; он выучил эти письма наизусть и сейчас, под стук колёс, переживал всё снова.
Александру Петровичу не спалось, хана выветрилась, можно было выпить ещё и попытаться уснуть, но от аромата китайской водки трудно избавиться. В купе стало светлее, низкие придорожные заросли на пустынной и ровной, как стол, местности от Цицикара до Харбина не доходили до окон вагона; деревья вдоль полотна почти не росли, и нечему было закрывать полную луну, которая неожиданно повисла над дорогой и светила то в окно купе, то перебегала на другую сторону, и тогда поезд отбрасывал меняющую очертания, играющую, как на поверхности воды, тень. Когда луна заглядывала в окно, Кузьма Ильич ворочался.
«Да! Тогда, в сентябре, я уехал надолго и очень далеко». Он достал письмо, открыл помятый конверт, которому досталось за время его скитаний, и вытащил сложенный вдвое лист и фотографическую карточку. В тёмном купе при неверном свете луны текст не читался, а на карточке только угадывался силуэт мальчика в матроске и детской бескозырке. Конверт был тёплый, и от этого он ощутил сосущую тоску, это его расстроило, он всегда думал, что последние сотни километров к дому будет ощущать приподнятость и радость, а тут…
«Разлука сближает! Не помню, кто это сказал! Ни черта подобного! Что происходит, Александр Петрович? И какого чёрта эта тоска? Почему?»
Он снова стал вспоминать письма Анны, нежные, заботливые, она только изредка и скороговоркой упоминала о трудностях, с которыми сталкивалась, когда в России началась революция и Гражданская война, хотя и косвенно, но задевшие и их харбинскую жизнь. Анна писала о том, как на свет появился их сын, как рос, его первые шаги и слова, произнесённые в присутствии гостьи – одной из её харбинских подруг, которая, кстати, если судить по последнему письму, дождалась мужа и они переехали в Тяньцзинь…
«Разлука сближает… А какими мы становимся в разлуке? Харбин – мирный город, не познал ни войны, ни революций! Какая сейчас Анна? А может быть – какой сейчас я?..» Александр Петрович чувствовал, что за эти годы он изменился, ожесточился, что ли? Мягкими в его памяти были только воспоминания о Мишке Гуране, о таёжном житии, отношении Мишки к людям и к нему, он мог и не подобрать его, бросить, не взять в сани…
«А ведь каков, – подумал Александр Петрович. – За полтора года ни разу не спросил, кто и что я? Егерь и егерь! «Ахвицер»! Ему довольно было того, что он услышал от меня, когда я бредил. Удивительный человек! Если бы не он, я бы, наверное, стал как битое стекло – мелкий, острый и опасный, или вообще бы не был!»
В лунном свете снова заёрзал Тельнов, чуть не упал с полки, опёрся рукой о столик и повернулся на другой бок.
«Вот ещё один – божий человек!»
Вдруг Александр Петрович услышал выстрел, он не ошибся, это был выстрел, потом прозвучал ещё и ещё, выстрелы только приглушал стук колёс летящего поезда. Через короткое время послышались ещё два выстрела и звонко лопнули стёкла, но поезд продолжал идти быстро и не сбавлял хода.
«Хунхузы!» – промелькнуло в голове.
По вагону забегали люди, послышались тревожные голоса и крики, Кузьма Ильич проснулся, сел и ошалело водил глазами по подсвеченным луной стенам купе. Адельберг приложил палец к губам: мол, не шумите, тот что-то пробормотал и, видимо, так и не проснувшись, снова, как подкошенный, повалился на полку.
За несколько секунд с Александра Петровича слетела вся тяжесть прежних мыслей, он будто снова очутился в Маньчжурии предвоенных лет, когда хунхузы так же смело нападали на поезда и даже скоростные экспрессы. А поезд шёл, не сбавлял хода, по коридору ещё бегали, но скоро всё улеглось.
«Понятно, их тактика не изменилась, стреляли по паровозной кабине, но в машиниста не попали, поэтому мы едем! Ну, слава тебе Господи!»
Глава 8
Адельберг проснулся задолго до того, как колёса загрохотали по железным конструкциям моста. Сейчас под мостом в косом и ритмичном мелькании металлических ферм текла мутная коричневая Сунгари.
Проснулся Тельнов и уставился на спутника.
– Кузьма Ильич, вам на пробуждение и туалет пять минут.
Уже выбритый, Александр Петрович прислонился к окну, с середины моста он увидел город, набережную и на набережной похожий на белый корабль Яхт-клуб.
До вокзала оставалось ещё минут семь.
* * *Он вышел на перрон и через несколько секунд зашёл в большой, с высоким сводом зал. Он не чувствовал веса саквояжа, после многих лет отсутствия ноги вспоминали неровности мраморных плит, он машинально обернулся и среди людей разглядел плетущегося за ним Тельнова.
«Господи, я и забыл про него!»
– Кузьма Ильич, наддайте, что вы, ей-богу, плетётесь!
Они вышли из-под козырька крыльца на привокзальную площадь и оказались под острыми лучами солнца. Тельнов прикрылся ладонью и стал опасливо озираться.
– Нуте-с! Вот вам и Харбин! – Александр Петрович сказал это просто так, на ходу.
Кузьма Ильич шёл и заглядывал по сторонам.
– Что такое, Кузьма Ильич? Что вы ищете?
Тельнов прошёл за ним ещё несколько шагов и встал как вкопанный.
– Что такое, Кузьма Ильич? Что вы в самом деле… – Адельберг начал раздражаться на тормозившего его старика, но тот не дал ему закончить:
– Мы где, Александр Петрович?! Разве это тоже Китай?
Адельберг остановился, и к ним тут же устремились несколько лихачей.
– Куда, барин, мигом домчим!
Он поставил саквояж на пыльную, сухую мостовую.
По площади с разной скоростью в разные стороны двигались запряжённые лоснящимися, сытыми лошадями рессорные коляски, медленно разъезжались ломовики с поклажей огромных, перевязанных шпагатами тюков; слева, рядом с главным входом в вокзал, стояли и ждали своей очереди за выходящими пассажирами с десяток лихачей, одетых в серые кафтаны и плоские кучерские цилиндры на головах.
«Господи, боже мой! Действительно, разве же это Китай?»
Каким было долгим ожидание возвращения! Вот оно состоялось, и в это не верилось. Его охватило волнение, но он взял себя в руки, отказал извозчикам и совсем перестал обращать внимание на Тельнова.
– Дойдём пешком, тут недалеко, – бросил он, не оглядываясь.
Кузьма Ильич семенил сзади, пытаясь поспеть, он потел в своей овчине и, не переставая, бормотал:
– Свят, свят! Господи, спаси и помилуй! Разве же это Китай? Это ж Россия-матушка! Калуга! Тверь! Понюхайте! Пахнет… пирогами с капустой! Или кто-то меня морочит!
Они пересекли большую привокзальную площадь и вышли на Вокзальный проспект, короткий, широкий и прямой; проспект поднимался от вокзала на Соборную площадь и там, где заканчивался, над горизонтальной линией мостовой, пряничной горкой возвышался деревянный, сложенный из брёвен собор со многими главками, высоким шатром и золотыми крестами.
Адельберг шёл, не оглядываясь, сзади за ним еле-еле поспевал Тельнов, но он уже не слышал, как старик поминутно озирался и тихо приговаривал:
– Матерь Божья, как будто у них тут ничегошеньки и не было: ни тебе революций, ни тебе Гражданской и никакой другой…
Они миновали Вокзальный проспект и, выйдя на круглую Соборную площадь, Адельберг краем глаза увидел, что Тельнов остановился, уронил на мостовую мешок и крестится на купола.
«Чёртов старик, – в сердцах помянул его Адельберг, – успеет ещё накреститься!»
До дома оставалось всего несколько сотен шагов, сейчас они перейдут через Большой проспект и повернут на Разъезжую…
– Поторапливайтесь, поторапливайтесь, Кузьма Ильич! Ещё успеете…
Глава 9
20 июня Анна встала рано, Сашик ещё спал, день предстоял суматошный: пока сын не проснулся, надо управиться с домом, потом отвести Сашика в «маячок» и самой бежать в танцкласс, где она зарабатывала уроками. Она закончила со стиркой, подошла к зеркалу, посмотрела на свои мокрые и красные от холодной воды руки, потом перевела взгляд на себя: «Анна, Анна, что с тобою стало?» Тыльной стороной ладони она провела по лбу, пытаясь поправить длинную непослушную прядь, свисавшую у левого виска, и посмотрела на руки ещё раз: «Хороша бы я была, если бы Александр сейчас появился. Матка Боска, не дай пропасть!» Она вытерла ладони о передник и перекрестилась. Ходики показывали половину восьмого утра, Анна легко подхватила широкий тяжёлый таз с волглым, только что отжатым бельём и толкнула плечом дверь в сад. «Может быть, просто письма не доходят? Почему он не пишет! Жив ли? Езус Марья!»
Она поставила таз на траву и взяла сверху что-то первое, маленькое, туго скрученное и отжатое, это была пижамка сына, она расправила её и закинула на провисшую верёвку. Тени падали влево, она глянула и вдруг услышала, что за спиной негромко постучали в окно, обернулась и увидела Сашика.