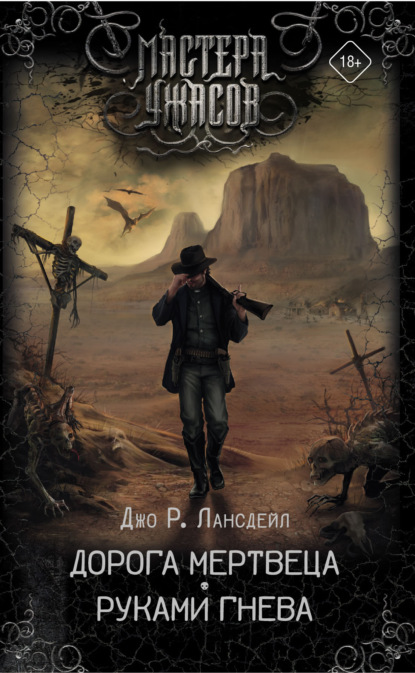Полная версия
Дом окон
Ситуация была нелепой – с нами будто сыграли плохую шутку. Разве можно отрекаться от своих детей? Если бы слова Роджера не были такими жестокими, если бы он не произнес эти слова леденящим душу голосом, я бы засмеялась. Он отрекся от Теда? Он что, возомнил себя Королем Лиром? Ей-богу. Но его голос… Стоя на стоянке за Ратушей, наблюдая за тем, как Роджер подошел к машине и оперся на нее рукой, пока Тед направлялся в сторону автобусной остановки, я осознала, что боюсь – не Роджера, а за него. А еще злюсь. Какой бы нелепой не была ситуация, нельзя говорить своему ребенку подобные вещи. Я впервые была по-настоящему зла на него. Мы ссорились до свадьбы – частенько и после нее, – но по пустякам. А это был не пустяк. Я метнулась к нему. Он открыл дверь машины, но все еще стоял, оперевшись рукой на крышу. Когда он повернулся, я увидела, что его лицо посерело и он тяжело дышал. Он сказал: «Дорогая, кажется, у меня инфаркт. Отвези меня, пожалуйста, в больницу».
Мой отец умер от инфаркта. Я знаю симптомы. Я предложила вызвать скорую, но Роджер отказался. «Не хочу, чтобы он видел». Представляешь? Теда нигде не было видно. Но его это не убедило. Он и слышать не хотел о скорой. С трудом подавляя панику, я отвезла Роджера в больницу в Пенроуз, выжимая почти двести в час. Мы пролетели мимо здания полиции на 229-м шоссе, но аккурат в нужный момент. Нас никто не заметил. А я в это время делала сто дел одновременно. Вдавливала педаль в пол, потому что в такой ситуации главный враг – это время. Держала обе руки на руле, устремив глаза на дорогу. Пыталась как можно быстрее обогнать едущие впереди машины. Следила за состоянием Роджера: он сидел, откинувшись на сиденье с закрытыми глазами и открытым ртом. Испугавшись, что он мертв, я позвала его: «Роджер? Ты меня слышишь?» Я была готова отпустить руль одной рукой и толкнуть его, но тут он ответил: «Я слышу тебя». Когда мы вылетели на мост, то только чудом не слетели с него.
Как оказалось, у Роджера действительно был инфаркт. А вдобавок три сломанных ребра, ушиб бедра и почки. Не говоря уже о синяках и порезах по всему телу. Инфаркт оказался не настолько тяжелым. Кардиолог сказал мне: «Сильнее, чем слабой, но меньше умеренной интенсивности». Роджер не хотел, чтобы кто-то прознал об этом. Пока мы сидели в приемном отделении, он взял меня за руку и сказал:
– Никому не рассказывай.
– Про тебя и Теда? Поздно.
– Нет, вот про это, – ответил он, постукивая пальцем по груди. Мне не нравится, когда так делают – стучат по грудной клетке. У меня от этого мурашки бегут по коже. Начинает казаться, что внутри человек пуст.
Хоть я и не понимала, что в этом страшного, я решила уважать желание Роджера. Когда я рассказывала о том, что он попал в больницу, люди считали, что вследствие драки – так, в сущности, и было. Думаешь, это совпадение, что он катался по полу и лупил кулаками Теда, и заодно получал в ответ, а потом его сердце сказало: «Извини, я так больше не могу»? Тогда я осталась с ним в больнице на ночь, а потом и на всю последующую неделю. Сначала его накачивали лекарствами, и я устроилась рядом с его кроватью, разглядывая багровые и сине-фиолетовые синяки на лице. Они были похожи на боевой раскрас. И даже если Роджер просто спал, выглядел он довольно свирепо. Я нуждалась в телесном контакте и держала его за руку, но потом, когда худшее было позади, я прокручивала в голове сказанные им Теду слова, которые про себя я уже окрестила проклятием Роджера. «Я отрекаюсь от тебя; я отказываюсь от тебя». Просто живот надорвешь, но мне было не до смеха. Он не мог сам такое выдумать, я уверена. Это точно была цитата. Он часто так делал: цитировал Диккенса, или Браунинг, или еще кого, и не сознавался, что цитировал. Как будто говорил: «Смотри, какой я умный» – и, если ты не в силах назвать источник, то и: «Какой ты глупый». Я постоянно отпускала шпильки в его адрес по этому поводу. Первое время я из кожи вон лезла, чтобы угадать источник проклятия Роджера. Я много чего не читала у Диккенса, поэтому у Роджера был большой выбор страниц из объемных и широких чудовищных книг – да-да, у старого Чарльза есть довольно жестокие вещи. Ты читал «Крошку Доррит»? Там есть эпизод, где мать пытается запугать своего сына, чтобы он подчинился ее воле, и она грозится, что если он ее расстроит, то, когда она умрет, и он встанет перед ее трупом на колени, из трупа выступит кровь. Очень мило. Но на Диккенса такое проклятие было непохоже. Больше на Фолкнера: вся эта дребедень про семью, неоправданные ожидания и рок. Но я не могла вспомнить, что читал Роджер из Фолкнера. Он заявлял, что не брал в руки ни одну из его книг, написанную после 1914-го, но это он просто рисовался.
Как и все на кафедре английской литературы, верно? Всё есть текст или связано с ним. Вскоре игра «Найди, откуда проклятие» меня утомила. Не столь важно, откуда он стащил его. А важно то, что он наложил его на своего сына. Каждый раз, вспоминая выражение лица Роджера, когда он произносил эти слова, и его голос, я касалась своего живота. Да, я знала, что с нашим ребенком у Роджера будут совершенно другие отношения. С тех пор, как Тед вырос, Роджер изменился. Он стал старше, добродушней, а главное, счастливей. Наш брак был более благополучным, чем его первый; это уже тогда было очевидно. Нам было весело – уж поверь мне, в словаре Джоан такого слова нет. И для нас все было бы по-другому. Для всех троих. И все же эти слова: «С этого момента я прекращаю быть твоим отцом; ты больше не мой сын»…
* * *Я так и не узнала, каким отцом Роджер стал бы для нашего ребенка. В ту первую ночь в больнице я проснулась от кошмарных спазмов. Я знала. Еще до того, как окончательно проснулась, я знала. Я попыталась встать и дотянуться до кнопки вызова медсестры, прикрепленной к одеялу Роджера, но боль сбила меня с ног. Я упала и осталась лежать на полу. Я не могла вздохнуть: меня сжимала гигантская рука. Всё, что я видела, – пол под кроватью Роджера. «Нет, – подумала тогда я. – Нет-нет-нет-нет-нет». Я закрыла глаза и начала сопротивляться тому, что со мной происходило. «Да», – сказало мое тело, и рука сжалась еще сильнее, вызвав новую волну спазмов. Я открыла глаза. По щекам струились слезы, из носа тоже текло. Днище кровати Роджера заколыхалось, а затем расплылось. Я снова закрыла глаза, и гигантская рука сдавила меня со страшной силой. «Господи, – подумала я. – Пожалуйста». Я чувствовала… Я чувствовала, как внутри меня что-то обрывается. Как что-то ускользает от меня. Ощущение было таким мерзким. Я открыла глаза…
И вместо кровати Роджера я смотрела на плоскую поверхность – на стену. Она была в десятке метров от меня, намного дальше, чем стены палаты. Светлую плитку пола сменил темный паркет. Не обращая внимания на боль, я повернула голову.
Кровать Роджера… Его палата исчезла. Я находилась в огромном пустом помещении, похожем на церковь. Нет, не церковь, не тот антураж. Представь дом, в котором нет комнат, нет коридоров – ничего, кроме наружных стен. А самое интересное, что даже в агонии, впивающейся зубами в мой живот, я узнала это место. Это был Дом. Дом Бельведера. Дом Роджера.
Пространство вокруг меня начало расплываться: из глаз хлынул новый поток слез. Дышать стало совсем невмоготу. Я моргнула. Я все еще была внутри Дома. Стены… Дверные проходы, которые я сперва приняла за столпившиеся у стены тени, словно решето пронизывали пространство вокруг. А внутри каждого проема…
Лицо. За порогом каждого дверного проема, заполняя всю его площадь, таилось огромное лицо. Десятки громадных лиц. Меня бросило в холодный пот; от усилившейся боли меня начало потряхивать. Лица были идентичны: продолговатый нос с горбинкой, глубокие морщины вокруг губ и бровей и густые, давно не стриженные волосы. Полсотни живых портретов Роджера взирали на меня из пустоты Дома Бельведера. Их губы шевелились, и громкий шепот эхом разносился по помещению. В хоре шепота я могла различить отдельные фразы. «Ты – ничто, всегда был и будешь», «Это просто нелепо! Это возмутительно», «Чего ты хочешь?», «Пусть душа твоя не знает покоя даже после смерти; пусть вечной будет твоя незавидная доля», «Все. Бери все, что угодно».
Я теряла рассудок. Другого объяснения происходящего у меня не было. Сон не может быть таким отчетливым. Лица… С ними было что-то не так. На месте глаз одного зияли пустые глазницы. Кожа другого отслаивалась лоскутами, обнажая скрывавшиеся под ней пластинки, похожие на чешую. Третий заговорил, и по подбородку изо рта начала струиться кровь. Я зажмурилась и повторяла про себя: «Господи. Господи». Боль взяла высокую ноту и растянула ее на несколько тактов. Я опустила голову на пол и больше не поворачивалась, переживая заключительную стадию процесса зажмурив глаза.
Когда дежурная медсестра обнаружила меня и позвала на помощь, он погиб. Ребенок, которого я только начала считать своим, погиб. Кто-то встряхнул меня, раздался голос: «Вы меня слышите?» – и, открыв глаза, я увидела широкое, тревожно нахмуренное лицо женщины средних лет. Я вернулась в палату. Было много крови. Ее тяжелый запах стоял в воздухе, ею был покрыт пол, ею пропиталась моя одежда. Медсестры помогли мне привести себя в порядок и отыскали чей-то старый спортивный костюм. Они предлагали позвать врача – настойчиво советовали, – но я отказалась. Да, я осознавала, на какой риск они идут. Я уверила их, что с утра первым делом обращусь к своему гинекологу. А пока я не хотела оставлять мужа, но это была не вся правда. Все то время, пока я страдала на полу, Роджер спал. За его состоянием следили подключенные аппараты. За ним ухаживал целый этаж медсестер. Но я… Сама мысль о том, что доктор сообщит мне о выкидыше, была невыносима. Я знала, именно это и случилось. Я знала, что больше не была беременна, но услышать это от доктора, услышать диагноз – это было слишком. Ни одна из медсестер не одобрила такого решения, и они заставили меня неоднократно пообещать, что на следующий день я обращусь к гинекологу.
Вторую ночь я снова провела, не сомкнув глаз, дрожа всем телом и отчаянно нуждаясь во сне, но мой мозг не мог отрешиться от пережитой потери. И от увиденного в процессе. Это… Я не знаю, что это было. Вероятно, галлюцинация – наиболее близкое слово, но не совсем то. Не знаю, какое может подойти. Я закрывала глаза и снова видела пустой Дом, дверные проемы, лица. Слышала слова Роджера: «Молодой человек, всё лучшее, что должно было быть в тебе, стекло по ноге матери». Я снова и снова проживала момент, когда мой ребенок покинул мое тело. Каждые полчаса то одна, то другая медсестра заглядывала в палату и, обнаружив, что я бодрствую, осведомлялась о самочувствии. Я не знала, что им ответить. По большей части я ощущала пустоту. Не беря в расчет слезы, выплаканные в процессе потери ребенка, я плакала на удивление не так уж и много. Я не успела привыкнуть к тому, что вынашиваю ребенка. То, что внутри меня зарождалось еще одно живое существо, казалось невероятным. Мне кажется, все становится по-другому, как только малыш начинает шевелиться. Я сидела рядом с Роджером и думала: «Сегодня он потерял двух детей».
Я ничего не рассказывала ему, пока мы не вернулись домой. Первые два дня, что он провел в Пенроуз, я боялась за его сердце. Доктор уверил, что состояние Роджера стабильно и все будет хорошо, но я не хотела испытывать судьбу, понимаешь? Я сдержала обещание, данное медсестрам, и на следующее утро пошла к своему гинекологу. В ответ на его сочувствие я разрыдалась прямо в кабинете. Он произнес целую речь о том, что все это, конечно, сложно, но в то же время, и к лучшему: природа пощадила жизнь, которой не суждено было начаться. Я кивнула головой, вытирая глаза и сморкаясь в платок, который он мне дал. Самое важное, как он сказал, это то, что я физически здорова и должна за этим следить. Что мне стоит заботиться о себе. Что депрессия и злость – нормальная реакция психики. Он дал мне визитку доктора Хокинс – психотерапевта, к которому он раньше направлял своих пациентов, – и заставил меня пообещать, что я обязательно позвоню ей, если пойму, что не справляюсь. Клянусь, в те дни я только и делала, что давала обещания. Я дала слово позвонить психотерапевту, если мое состояние ухудшится. Когда я вернулась в машину, чтобы поехать в больницу, у меня возникла странная мысль. Положив обе руки на руль и устремив взгляд на лобовое стекло, в котором я видела свое отражение – отражение женщины, которая была в процессе становления матерью, а теперь перестала, – я подумала: «Вот какова цена слов Роджера». На секунду эта мысль овладела мною – я была твердо уверена, что так оно и было, – и мне снова привиделось лицо Роджера, обрамленное дверным проемом, безглазое, с отслаивающейся кожей и струящейся изо рта кровью. Но через секунду мысль исчезла. Встряхнув головой, я завела машину и направилась в больницу.
* * *Роджер быстро шел на поправку. Так быстро, что я могла бы сразу сказать ему о выкидыше. Он, как мне казалось, достаточно окреп, но больница была не самым подходящим местом. Роджер чуял, что я что-то от него скрываю. Он постоянно спрашивал, что случилось. Ничего, отвечала я, просто немного устала. «Не изматывай себя, – сказал он в предпоследний день в больнице, – подумай о ребенке». У меня получилось выдавить улыбку.
В тот день, когда мы вернулись домой, я все ему рассказала. Ему прописали постельный режим еще на неделю, и из-за этого он сердился. «Я и так провел неделю в постели», – пожаловался он кардиологу, который велел ему соблюдать рекомендации, или, в противном случае, они увидятся гораздо раньше, чем хотелось бы. Инфаркт заставил Роджера поволноваться. Сначала кажется, что это может случиться с кем угодно в любом возрасте, и это правда – так убеждал себя Роджер после того, как попал в больницу. Конечно, инфаркт может случиться и в тридцать лет, но как мы на это реагируем? Удивляемся. Говорим: «Ничего себе, какой молодой, а уже инфаркт». Потому что проблемы с сердцем свойственны старости. Ты когда-нибудь слышал, чтобы кто-нибудь говорил «Стукнуло пятьдесят? Готовься к инфаркту!»? Всю неделю в больнице Роджер повторял: «Неужели у меня был инфаркт?» На третий или четвертый раз я поняла, что этим он хотел сказать: «Неужели я так стар?» Я переубеждала его, говоря, что, да, непонятно, как такое могло случиться с вполне здоровым человеком. Про себя я, конечно, припоминала его пристрастие к сыру, сливочным соусам и мороженому.
Мы вернулись домой с рекомендациями по питанию, и я уложила Роджера в постель с ежеквартальным журналом по Диккенсу. После масштабных баталий Теда и Роджера квартира все еще стояла в руинах. За день до возвращения я приехала, чтобы хоть немного прибраться, но везде царил хаос: повсюду разбросанные книги, осколки стекла на ковре, пятна крови на полу. Выудив из-под раковины моющие средства, я опустилась на четвереньки и начала драить полы. Уборка – это своего рода терапия, по крайней мере для меня. Из спальни донесся голос Роджера:
– Дорогая? Что ты там делаешь?
– Убираюсь, – ответила я.
– Ты думаешь, это хорошая идея? – спросил Роджер. – Особенно в твоем положении?
В моем положении. Мое положение уже не было положением; я была в положении отсутствия. Я поднялась и направилась к Роджеру, который лежал на кровати в очках с полуободковой оправой и с подложенными под голову подушками. На нем была старая футболка с какого-то форума с выцветшим портретом Диккенса. Не снимая желтых резиновых перчаток, которые я натянула, и держа в руке губку, я присела на край кровати и произнесла:
– Роджер, я потеряла ребенка. Прости меня.
– Ох, милая, – сказал он, уронив журнал, и потянулся ко мне. Я упала в его объятия. – Когда?
– Когда ты лежал в больнице.
Я почувствовала, как он кивнул. Я ждала, что он спросит, почему я не рассказала ему раньше, но не хотела отвечать. Он не спросил, а просто продолжал меня обнимать. Я думала, что как только произнесу эти слова, то сразу зарыдаю, но не проронила ни слезинки. Я ощутила облегчение. Облегчение и покой. Роджер всхлипнул, а потом вдруг заплакал. Все закончилось тем, что я утешала его, говоря «все хорошо», повторяя слова доктора о жизни, которой не суждено было начаться. Даже если и не верила им – если все еще связывала выкидыш с проклятием Роджера, – я никак этого не выдала. Я старалась об этом не думать.
В одночасье все изменилось. Не коренным образом. В наши жизни… В нашу жизнь прокралась печаль. До того, как Тед забарабанил в дверь, трудности случались, иногда большие трудности, но что бы ни происходило – будь то предательство старых друзей Роджера, или звонки Джоан каждую ночь, или ее появление на пороге нашей квартиры или отеля, в котором мы надеялись от нее укрыться – о, да, она была сумасшедшей, – нам было плевать; если она и приходила, она была там, снаружи. Пускай делала бы все, что ей заблагорассудится, пускай говорила, что хотела, но она никогда бы не смогла встать между мной и Роджером. Я уверена, она это понимала, и это приводило ее в бешенство. Но этой цепи событий – отречение Роджера от Теда, его инфаркт, и особенно потеря ребенка – удалось добиться того, чего не смогла Джоан. Она проскользнула в то общее, что мы выстроили вместе, но не разрушила его, нет, а словно бросила на все тень. Ничего не приносило радость, как раньше. Звучит так, будто я начала пить, а Роджер перестал ночевать дома, или же мы начали постоянно ругаться, но все было совсем не так. Дьявол в деталях. Мы просыпались и завтракали в разное время. Мы перестали вместе читать воскресный выпуск «Таймс». Во время ужина мы смотрели телевизор. Вряд ли что-то могло вызвать беспокойство. Нам не грозило повторить судьбу Роджера с Джоан. Наша жизнь изменилась, вот и все.
И как бы я ни боролась, но время от времени снова слышала голос Роджера и слова проклятия. Когда пересекала Гудзон по пути на занятия в Пенроуз; когда стояла в отделе фруктов в супермаркете, сравнивая, какие яблоки – красные или желтые – посвежее; или же когда шла от почтового ящика к дому, сортируя пришедшую за день пачку счетов и реклам, этот леденящий душу голос заставал меня врасплох. «Ты опозорил и опорочил нашу семью», «Я разрываю все связывающие нас узы; мы больше не одной крови». И то место, которое я увидела в ночь, когда потеряла ребенка – другой Дом Бельведера, – представал взору: все эти дверные проемы, лица… А потом они исчезали: звуки, видения. И я снова вела машину, стояла с тележкой, держала в руках пачку конвертов. Вероятно, мне стоило поговорить об этом с Роджером. Нет, забудь: мне определенно надо было с ним поговорить. Но тогда… Друг с другом мы ни словом не обмолвились об отречении Теда. Сердечный приступ Роджера и сопутствующее ему состояние не оставляли места для разговора, а когда мы снова были дома, то темой обсуждений стал выкидыш, и чем больше времени проходило со случая на парковке, тем тяжелее было завести беседу. Я надеялась, что все сказанное Роджер объяснит тем, что погорячился; что касается увиденного мною – я и думать не хотела, как это скажется на моем психическом состоянии.
* * *Сложно поверить, но Земля продолжала крутиться. Когда я только поступила в магистратуру, экономика была стабильной. Мы подходили к концу эпохи интернет-бума. К тому времени, как Роджер и Джоан подписали документы о разводе, экономика рухнула, и выборы 2000-х затянулись из-за пересчета голосов. Роджер терпеть не мог Буша. Даже в разгар бракоразводного процесса он не упускал возможности упомянуть, каким тот был идиотом. Он все говорил: «Если нам нужен президент-республиканец, то почему, черт возьми, им не может стать Маккейн, а не этот трескучий болван?» Я голосовала за Нейдера. Но все это – политика, экономика, мировые события – происходило на заднем плане, понимаешь? Разумеется, нас взволновали бомбардировка эсминца «Коул», начало экономического кризиса, но ничто из этого не шло в сравнение с тем, что мы переживали – плохое или хорошее. Ничто не казалось настоящим.
Стоит ли говорить, что все изменилось одиннадцатого сентября? Не считая репортажей по телевизору, тот день мне отчетливо запомнился тем, что я отчаянно пыталась связаться с Тедом. Нас атаковали. Самолеты врезались в здания. Никто не знал, сколько еще могло быть атак и что могло стать очередной целью. Могло случиться что угодно. В такой ситуации вполне закономерно, что тот, кто все это организовал, первым делом нацелился бы на военные базы. Но дело в том, что у нас больше не было номера Теда. Роджер выдернул его из записных книжек после возвращения из больницы. Я пыталась набрать справочную, но не могла дозвониться. Роджер был на занятиях. Я набрала Джоан – понимаешь степень моего отчаяния? – занято. Она ведь жила на Манхэттене, помнишь? Не в самом центре, но кто знает. Не иначе как вся семья пыталась до нее дозвониться. Я была в отчаянии, измеряла шагами квартиру, слушая один сигнал «занято» за другим. И решила, что, как только Роджер вернется домой, я спрошу номер у него. У него была отличная память на цифры, и как бы он ни старался стереть из памяти номер Теда, я знала, что если я надавлю, то он его вспомнит.
За десять минут до того, как Роджер, вбежав в квартиру, произнес «Господи, дорогая, ты слышала?», я снова попыталась набрать справочную и дозвонилась. Оператор на удивление спокойным голосом осведомилась, какой номер мне нужен. Я ответила ей. Она назвала мне нужные цифры и пожелала хорошего дня. Невероятно. Набрав номер Теда, я стала ждать. Я была уверена, что линия будет занята, если вообще будет работать. Но она работала. Спустя вечность раздались гудки. Они продолжались и продолжались. Я начала сомневаться в правильности набранного номера; гадала, будут ли идти гудки даже после того, как телефон на другом конце будет уничтожен. Я прождала пятьдесят или шестьдесят, а то и семьдесят гудков. И уже было думала повесить трубку и снова набрать номер, но побоялась, что во второй раз не смогу дозвониться. Надеялась, что, если я не отсоединюсь, кто-нибудь возьмет трубку и скажет мне, что Тед в порядке. Все это время в телевизоре за моей спиной показывали горящие башни-близнецы, горящее здание Пентагона и черные столбы дыма, воздымавшиеся в небо. Слышно было, как один за другим дикторы повторяли: неизвестно, кто стоит за этим, неизвестны масштабы операции.
Наконец трубку сняли и я услышала голос Теда:
– Алло?
Облегчение накрыло меня с головой так быстро, что я не успела его прочувствовать. Я почти закричала:
– Тед! Это Вероника. Жена твоего… Жена Роджера. С тобой все хорошо?
Ответа не последовало.
– Тед? – повторила я. – Ты меня слышишь?
Он повесил трубку.
Когда я перезвонила, номер был занят. Неудивительно, что он повесил трубку. Правда, я надеялась, что, может, где-то порвались провода и нас попросту разъединило. Но нет, я знала, это было его решение. По крайней мере, я услышала его голос. Я положила трубку, и мгновением позже в квартиру ворвался взволнованный Роджер. Тогда я не рассказала о звонке. Мне казалось, что стоит подождать, пока он сам не заговорит о Теде. Он не знал. Остаток дня мы провели, приклеившись к телевизору, на экране которого снова и снова крутили страшные картины. Репортеры, ведущие, аналитики – все они упрямо твердили, что случившееся невообразимо. Нет, подумала я, такое можно только вообразить. Но подобное должно оставаться надежно запертым на страницах романа Тома Клэнси.
Роджер ни разу не упоминал Теда. Или Джоан, раз уж на то пошло. Прозвучит странно, но одиннадцатого сентября я осознала, что мой муж окончательно отрезал себя от прошлой жизни. К моему разочарованию, он даже не предложил позвонить Теду. И, если уж совсем начистоту, я немного расстроилась из-за того, что он даже не позвонил Джоан. Она, несомненно, тот еще тиран, но в такой день надо посылать к черту все разногласия и, по крайней мере, элементарно проверять, не случилось ли чего друг с другом. Я могла бы проговориться о том, что пыталась связаться с ними обоими, но чем дольше Роджер хранил на эту тему молчание, тем больше мои попытки представлялись не к месту.
Ты помнишь, как все было после теракта? Поскольку я писала статью о Готорне, мне пришлось перечитать парочку его произведений, и я принялась уже чуть ли не в двадцатый раз за «Дом о семи фронтонах». Утром одиннадцатого числа я успела прочитать несколько страниц, когда затрезвонил телефон, и моя подруга, Алиша, сказала включить телевизор: в башни Всемирного торгового центра врезался самолет. Я отложила книгу и до конца дня так к ней снова и не притронулась. Позже – думаю, где-то на следующее утро – я заметила, что она так и лежит там, где я ее оставила. Я продолжила с того места, где остановилась; там, где Мол накладывает проклятие на судью Пинчена: «Бог напоит его моей кровью!» Но продолжить была не в состоянии. Слова на страницах никак не укладывались в голове. Я постоянно возвращалась к этому заявлению. «Бог напоит его моей кровью!» В конечном счете, я отправила Готорна обратно на полку и занялась уборкой. Закончив, усталая и вспотевшая, я не почувствовала облегчения, зато нашла способ убить время. В течение следующей недели я драила квартиру каждый день, иногда по два раза. Начищала все серванты и их содержимое. Переставляла мебель в гостиной. Когда я слышала слова Роджера – «Я отрекаюсь от тебя; я отказываюсь от тебя», – когда мне снова мерещился шепчущий Дом, я запрещала себе обращать на это внимание и принималась толкать диван. Я откручивала светильники и замачивала их в кухонной раковине, чтобы отмыть слои накопившейся грязи. Я переставляла мебель в спальне. Когда перед глазами вставала фраза «Бог напоит его моей кровью!», я игнорировала ее и тянула на себя кровать. Я выбрасывала вещи из шкафов, сортировала одежду Роджера в две кучи: одну сложить обратно, другую отнести в благотворительный фонд. Роджер наблюдал за моими занятиями, но помалкивал. Его реакция на кризисную ситуацию была другой: он целиком и полностью сосредоточился на своих занятиях. Часами сидел за кухонным столом с распечатками ключевых отрывков из книг, которые разбирал со студентами, исписывал их комментариями и заметками ручками разных цветов. У каждого мотива был свой цвет. После того, как он откладывал листок, тот был похож на что-то среднее между географической картой и картиной современного художника.