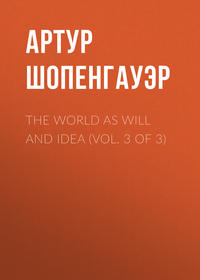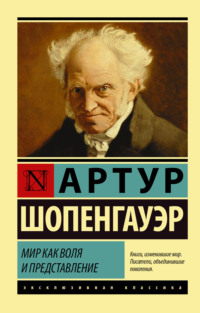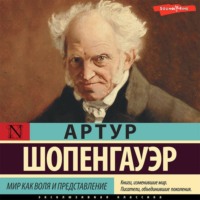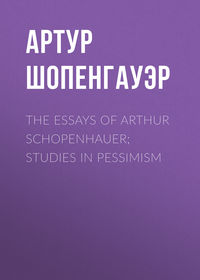Полная версия
Мир как воля и представление

Артур Шопенгауэр
Мир как воля и представление
© Марков А. В., вступительная статья, 2018
© Издание, оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2018
Зачем изучать весь мир вообще, или Пятьдесят оттенков философского героизма
Ни одна философская книга не воспринималась так неоднозначно, как трактат Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление» (1819). Обычно считается, что философские книги в чем-то похожи на их авторов: благородного 978-5-386-10433-7Платона, скромного Канта или трудолюбивого Гегеля. Но к книге Шопенгауэра читатели сначала не знали как подступиться: афористический возвышенный язык, легкая походка поэта в каждом слове, и тут же взрывы брани и почти фельетонная хлесткость. Последовательный идеализм, медленное и упорное созерцание высших сущностей, и рядом же почти механический материализм, выводящий мироздание из устройства глаза или мозга. Кипящее остроумие на всех языках и небывалая прозрачность слога, и в этой же прозрачности непривычное употребление слов, на что жаловался при чтении этой книги Гёте, что философская «воля» слишком не похожа на нашу бытовую «волю», и что нужно отдельно учить ключевые термины Шопенгауэра, чтобы его понять. Беллетристическая увлекательность, возможность начать с любого места и вскоре уже разобраться в основной мысли книги, и одновременно требование автора перечитывать книгу полностью и много раз – что же у нас в сухом остатке?
Шопенгауэр как никто другой опередил свое время и обогатил гуманитарную науку ХХ в. важнейшими понятиями, такими как «бессознательное» в психоанализе или «репрезентация» (английский перевод слова «представление» из заглавия труда) в художественной критике современного искусства. Шопенгауэр первым исследовал структуру бессознательного, перестав определять его просто как отсутствие сознания, и впервые сопоставил сценарии сновидения со сценариями нашего реального существования. Он же оказался первым пропагандистом буддизма в Европе, придавшим буддизму расхожий смысл «опытно известный мир – иллюзия».
Шопенгауэра чтил Людвиг Витгенштейн, за то, что сознание у него перестало быть готовой вещью, а стало моделироваться; его любили Лев Толстой и Томас Манн (считавший, что его книга, будучи раз прочитана в юности, впечатляет на всю жизни), Борхес и Беккет, сюрреалисты и абсурдисты, кубисты и абстрактные экспрессионисты, увидевшие в нём критика потребительского отношения к явлениям – ведь сам человек для Шопенгауэра это лишь один из моментов мировой воли, хотя и способный со стороны посмотреть на происходящее и тем самым явить свой «гений». Глубочайший «абстракционизм» Шопенгауэра: умение отвлечься от вещей и привычных порядков отношений с ними – ключ к искусству и философии ХХ века. Даже те мыслители ХХ столетия, которые не любили Шопенгауэра за его излишнюю эмоциональность, например, Хайдеггер, не могли пройти мимо тем, введенных им в философию – таких как восточный буддистско-даосский тип созерцания, значение повседневного опыта и повседневного языка для определения границ философии, и главное, внимание к «миру», а не к «бытию» – и так книга, выпущенная крохотным тиражом в 1819 г., стала общим достоянием мирового ХХ века.
Если говорить о жанре книги, то ее можно назвать «фанфиком» на темы Платона и Канта, можно сказать, философским соответствием «Гарри Поттеру» Дж. Роулинг или «Пятидесяти оттенкам» Э. Леонард-Джеймс. У Платона Шопенгауэр взял учение об идеях как истинной глубине мира, у Канта – различение разума и рассудка. Как и всякий фанфик, книга написана гладко и при этом всегда неожиданно. Как всякий удачный фанфик, она исследует минимальные условия гениальности: как сейчас сотни миллионов читателей и кинозрителей узнают, почему мальчик со шрамом или невзрачная журналистка побеждают всех злодеев и все соблазны, так и тогда мудрейшие люди благодаря Шопенгауэру начинали понимать, как человек, будучи слабой игрушкой обстоятельств, может стать ценнее любой ценности.
Как и положено фанфику, который сначала оказывается отвергнут издателями, а потом обретает миллионы читателей, книга Шопенгауэра соединяет два жанровых принципа: страшной сказки и гламурного репортажа. Такая форма позволяет раскрывать одну мысль, не теряя в силе убеждения при всей чарующей откровенности и пугающей неотвратимости повествования.
Главные герои основной книги, Представление и Воля, много раз потом появлялись в литературе под разными псевдонимами. Таковы, прежде всего, соответственно, Аполлон и Дионис Фридриха Ницше (сначала пламенного последователя Шопенгауэра, потом столь же пламенного его разоблачителя), затем Дух и Жизнь Томаса Манна или, скажем, Нарцисс и Златоуст как герои одноименного романа (1930) Г. Гессе. Вообще, всякий раз, когда мы говорим о противопоставлении «рациональной личности» и «творческой личности», или, другими словами, «ума» и «сердца», «рацио» и «душевности» или «задушевности», мы выступаем наследниками Шопенгауэра; с тем отличием, что Воля философа весьма бессердечна и уж совсем не задушевна.
Слово «пессимизм», ключевое для книги, мы часто представляем в значении из известной эпиграммы проф. С.А. Муромцева, великого русского социолога и председателя Первой Думы:
Кто в сорок лет не пессимист,А в пятьдесят не мизантроп,Тот, может быть, и сердцем чист,Но идиотом ляжет в гроб.На самом деле, пессимизм Шопенгауэра – не столько разочарование в людях, сколько созерцание собственной ограниченности. Это пессимизм в отношении к бытию, а не к людям. «Пессимизм» противопоставлен «оптимизму» Лейбница: учению о том, что действительный мир всегда лучше возможного именно в силу его действительности и отсюда шанс исправить его к лучшему. Шопенгауэр на это заметил, что уже один факт неизлечимых болезней опрокидывает все рассуждения Лейбница: любые наши старания найти лекарства от бед оказываются слабы в сравнении с роковой логикой самих бед. Такой пессимизм много раз воспроизводился в романах: один из последних примеров – «Th e People in the Trees» (2013) Ханьи Янагихары или романы Исигуро. Но обо всем по порядку.
Шопенгауэр родился в вольном городе Гданьске в 1788 г. В 1793-м, когда при очередном разделе Польши Гданьск был оккупирован Пруссией и стал Данцигом, семья переехала в Гамбург, незыблемо хранивший все древние торговые привилегии. Его отец был крупным купцом, вольнодумцем-вольтерьянцем и англоманом, часто путешествующим по коммерческим делам в Англию и Францию. Отец дал мальчику имя Артур из простого соображения: на всех языках это имя звучит примерно одинаково, а значит, сын быстрее станет гражданином мира. Артур в возрасте 10 лет обучался во Франции, а в возрасте 13 лет – в Уимблдоне под Лондоном.
После трагической гибели отца в 1805 г. (вероятно, он покончил с собой из-за неизлечимой болезни) сам Артур занялся делами конторы, отлаживая ее работу; а его мать Иоанна, весьма скоро промотавшая свою долю наследства, вынуждена была зарабатывать литературным трудом: она стала хозяйкой салона и модной писательницей. Ее романы и повести о путешествиях, довольно скучные для нынешнего читателя, но тогда расходившиеся на ура, замечательны только одним: в них речь постоянно идет о визитах, правилах визитов и правилах коммуникации – как именно судьба складывается из правильных или ошибочных разговоров. Это открытие Иоанны Шопенгауэр и легло в основу женской психологической прозы, вплоть до современной в диапазоне от Эльфриды Елинек до Анны Гавальда. Cын несколько раз рвался восстановить отношения с ней, предлагал свою помощь из доставшейся ему части наследства, но родственный разрыв был глубок; хотя знакомству с Гёте сын был обязан матери. Мать недоверчиво отнеслась к его занятиям философией, посмеявшись, что его диссертация «О четверояком корне закона достаточного основания» должно быть по медицине или сельскому хозяйству (т. е. гнетущему лабораторному ремеслу), на что Артур ответил, что его диссертация на века переживет романы мадам Шопенгауэр. По стопам матери пошла сестра философа, Адель (Аделаида) Шопенгауэр, впрочем, материнской славы не сподобившаяся.
В 1809 г., получая уже регулярный доход с отцовского наследства, Артур поступил в университет, сначала Гёттингенский, где учился медицине, а после перешел в берлинский, только что открытый, где слушал Фихте и Шлейермахера. Берлинский университет был заведением нового типа, в котором профессора не начитывали готовые курсы, воспроизводя профессиональный канон, а рассказывали студентам о своих новых открытиях, сразу завоевывая их для передовых научных исследований. Такая модель университета стала образцом для реформ образования по всему миру: и университеты Лиги Плюща, и Московский Университет равно скопировали берлинский опыт. Это было время создания новых типов образования по всему миру: педагогические и политехнические высшие школы во Франции, царскосельский Лицей в России, исследовательские университеты в Германии – всё это были заведения, вводившие учащихся не просто в профессию, а в современность; не просто передававшие знания, а учившие быть их создателями и распространителями, всякий раз щедро ими распоряжаясь, а не просто узко используя.
Шопенгауэру его учителя сразу не понравились: он вспоминал о красных руках Фихте, которыми тот размахивал (Фихте был сыном бочара, так что ремесленные руки нельзя было не заметить), и о том, как пастор Шлейермахер действовал как и положено пастору во время проповеди, усыпляя всю свою паству сложными словами и фразами. Особенно Шопенгауэра возмущали эллипсисы в их фразах, пропуски служебных слов, артиклей или предлогов: стоило ли громоздить фразу на полстраницы, чтобы выиграть грош, опустив придыхание h в слове, и сказав Tat (дело) вместо Th at? Еще больше Шопенгауэр невзлюбил «Феноменологию духа» Гегеля, считая, что этот философ завоевал внимание публики исключительно мечтательностью, основанной на многозначности слов, например, что слово «лучший» может означать и «более цельный» и «более развитый», и в результате концепция прогресса человечества выводится из расшатывания собственного смысла слова. Сам Шопенгауэр, вполне в духе французских просветителей предшествующего века, ссылался на здравый разум народа, который признает слова в самых простых и прямых значениях, и был убежден, что простота разума победит гегельянский морок. Даже бесконечно чтимого им Канта Шопенгауэр раскритиковал за то, что тот любил профессорскую терминологию больше простонародного меткого слова.
В 1812 г. Шопенгауэр защищает в Йенском университете, знаменитом очаге немецкого романтизма, диссертацию «О четверояком корне закона достаточного основания». Для защиты в Йенском университете тогда не нужно было приезжать: как и через 27 лет Карл Маркс (предпочетший Йену Берлину, чтобы сэкономить на проживании), он отправил рукопись обычной почтой и получил заключение о том, что труд заслуживает докторской степени. В диссертации Шопенгауэр впервые ввел слово «мотивация»: он доказывал, что если мы утверждаем бытие вещи, мы должны признавать и саму ее способность быть, и причину, по которой она существует, и ее способность быть познанной, не укрывшись от нашего взгляда – но кроме этих трех нужно знать еще четвертое, ее «мотивацию», иначе говоря, способность осуществлять саму себя, а иначе мы не отличим вещи от их аспектов или состояний. Слово «мотивация» с тех пор и вошло в психологию, означая не просто «порыв», а что-то вроде «самостоятельности».
В 1819 г. выходит главный труд философа, «Мир как воля и представление». Само слово «мир» было необычным для философии тогдашнего времени: философы предпочитали говорить о бытии, разуме, единстве, развитии или каких-то еще вопросах, которые Шопенгауэру не казались последними вещами. Заняться «миром» было совсем не тривиально, как и не тривиально для своего времени название романа Толстого «Война и мир» – Лев Толстой как раз заканчивал в 1869 г. работу над романом, когда по совету Фета прочел Шопенгауэра и сразу захотел перевести книгу, хотя вскоре уступил перевод Фету – ведь для описания войны существуют готовые героические жанры, тогда как для описания мира (будь то в значении всех вещей, или в значении мирного состояния всех вещей – это в русском языке одно слово, хотя патриарх Никон в свое время и велел без всяких лингвистических оснований различать их как мiръ и миръ) готовых жанров нет. Мы только можем остановиться в недоумении перед огромностью мира.
Если излагать совсем кратко содержание книги: мы не знаем мир иначе, чем как чувственный образ, выстроенный нами для наших же целей. Когда мы смотрим вокруг себя, мы воспринимаем некоторые импульсы и раздражения; но в картину происходящего они складываются, потому что как-то надо продолжать существовать в мире. Но если мы хотим продолжать существовать, то значит, в нас действует воля, которая тоже использует нас для своих целей (как Матрица в фильме сиблингов Вачовски). Значит, воля первична, а представление вторично. Но отличие человека от неодушевленных предметов и животных (для некоторых высших животных Шопенгауэр делал оговорки, что они умеют грустить, а значит, обладают началом сознания) в том, что он имеет то, что мы вслед за Декартом называем «сознанием», а Шопенгауэр называл «разумом и рассудком», различая по образцу Канта эти два понятия. Рассудок объясняет нам причины вещей, тогда как разум позволяет долго концентрироваться на вещах, не сводя их только к раздражающем нашу нервную систему факторам. Но тут опять вступает воля, которая, заметив наше созерцание ее, начинает созерцать через нас себя. Так возникает искусство.
Искусство по Шопенгауэру – спонтанная деятельность человека, человек не может сопротивляться собственному вдохновению; и разные формы искусства суть разные ступени объективации воли, на которых она познает свою собственную выразительность и роковую ярость. Но искусство никогда не удовлетворит мятущуюся волю, даже музыка, в которой воля просто движется в собственном ритме; и в конце концов воля созидает и рушит мир одновременно, она сама мир и сама – отрицание мира. Из-за этой деятельности воли наша жизнь полна страданий, но самоубийство – не выход, потому что оно только утвердит волю, обрекая сознание человека уже на вечную муку (здесь буддист Шопенгауэр близок к христианству). Поэтому единственный выход – пессимизм, сознание того, что любое наше удовольствие – лишь временная сделка с волей.
Легко назвать такую систему «романтической», напирая на мотив спонтанного творчества, – но есть одно важнейшее отличие Шопенгауэра от романтизма. Романтики мыслили «политически», имея в виду, что недостатки частных воль (предмет «романтической иронии») могут быть рано или поздно преодолены учредительным действием общей воли народа. А Шопенгауэр мыслил «экономически», имея в виду, что мы всегда должники одного большого банка под названием «Воля».
Сразу после выхода книги философ отправился отдохнуть в Италию, где подружился с некоей Терезой, и казалось уже, что вот-вот их сердца соединит любовь, как вдруг случилось худшее происшествие. Когда они ужинали, мимо прошёл красавец Байрон, статный и подобный молнии, и Тереза обомлела, побледнела. Философ понял, что поэт сильнее философа запал ей в душу, и их отношения сошли на нет.
Вопреки своей же философии, Шопенгауэр, желая отомстить миру молниеносных поэтических импровизаций, предался худшим страстям, и не выходил первые недели из сомнительных домов, равно как и гневался по любому поводу. Вернувшись в Германию и устроившись доцентом в Берлинский университет, он повздорил по мелочи с соседкой, спустив ее с лестницы: сначала дело было решено полюбовно, выписали штраф в 20 талеров; но адвокат соседки, желая отличиться, доказал суду, что дело сверхсерьезное, и что необходимо наложить арест на все счета зарвавшегося философа. Из арестованных доходов Шопенгауэра даме выплачивалась пенсия, и когда она умерла, Шопенгауэр написал на расписке латинский экспромт obit anus abit onus (старуха дохла долго, чтоб не осталось долга). Преподавать ему толком тоже не удавалось: студенты, очарованные Гегелем, не хотели записываться на его курс, а подозрительность, которая уже начала в нем развиваться, мешала ему набирать и пестовать учеников.
Чтобы как-то отвлечься от судебного процесса и преподавательских неудач, Шопенгауэр отправился путешествовать, в Швейцарию, Италию, потом в Мюнхен. Очень хотелось бы думать, что в Мюнхене он встречался с Ф.И. Тютчевым, служившим атташе при посольстве, но такая встреча слишком маловероятна: после второго итальянского путешествия Шопенгауэр окончательно стал англоманом, избегая общения не только с немцами, но и с теми, кто говорил преимущественно по-немецки. В Мюнхене он же перенес тяжелую болезнь, навсегда разлучившую его с обществом женщин – с тех пор он становится одиноким мизантропом. Он попытался вновь профессорствовать в Берлине в конце 1820-х годов, куда вернулся в надежде переиграть процесс соседки против него, но с гневом ушел из университета, возмущаясь «дилетантизмом» студентов, их, как он считал, испорченностью отвлеченными понятиями и наукообразной терминологией.
Спасаясь от разбушевавшейся в 1831 г. холеры, унесшей жизнь ненавистного Шопенгауэру Гегеля, он уехал навсегда во Франкфурт, где до самой кончины от воспаления легких в 1860 г. жил только в съемном жилье или в гостиницах, как позднее Набоков и как сейчас многие профессора, каждый год получающие контракт в другой точке мира, – чтобы не связывать себя никакими отношениями с бытом и только размышлять о несовершенстве мыслящих людей. Ипохондрия и страх ограблений мешали ему стать домовладельцем. Философа всегда сопровождали портрет Канта, статуэтка Будды и литографии с изображением собак: в них он видел наиболее осмысленных животных, как способных надолго запоминать хозяев. Он не расставался и с любимой флейтой, чтобы легко и непринужденно насвистывать сложную музыку.
Слава пришла к нашему философу поздно. Тираж его главной книги, вышедшей в 1819 г., был распродан лишь на треть. Переиздание книги с целым томом дополнений в 1843 г. уже заслужило некоторое внимание публики, равно как и собрание его моральных эссе «Парерга и паралипомена» (греч.: Досужее и пропущенное при основной работе). По меткому замечанию Бориса Хазанова, автора лучшей статьи на русском языке о Шопенгауэре «Черное солнце философии», публику привлек «блеск стиля, похожий на блеск чёрных поверхностей, контраст между тёмновлекущей мыслью и классически ясным языком», а моральные его замечания стали чем-то «вроде бокового входа, через который впускают экскурсантов во дворец. Метафизика гениальности, метафизика пола, смысл искусства, учение о музыке (…) – всё это сделало Шопенгауэра властителем дум на многие десятилетия; и ледяное дыхание этого демона доносится до нашего времени».
Но только после поражения всеевропейской революции 1848 г. пессимистическая философия оказалась très à la mode – многих, кто раньше верил в возможности человеческого разума переучредить социальный порядок, как только пошатнутся старые тирании, постигло разочарование. Как будто выяснилось, что невозможно сконструировать лучшую историю с помощью даже самой стройной и выверенной системы понятий – и хотя национальные движения на периферии Европы продолжали вдохновляться гегельянством, левые гегельянцы поддержали «Манифест коммунистической партии» 1848 г. с его вселенским замахом, а через несколько поколений, после первой мировой войны гегельянство получило новую жизнь во Франции, – тогда казалось, что эпоха Гегеля закончилась навсегда, и его ненавистник Шопенгауэр был объявлен философом эпохи.
Шопенгауэр вдохновил множество поэтов и прозаиков, продолжает вдохновлять и сейчас, через множество опосредований, совершенствование компьютерных игр и виртуальной реальности, стратегии ведения бизнеса и деловой этикет, психоанализ и психотерапию. В русской литературе есть прекрасный конспект всех идей Шопенгауэра – стихотворение Фета с эпиграфом из философа, содержащее такие строки:
Еще темнее мрак жизни вседневной,Как после яркой осенней зарницы,И только в небе, как зов задушевный,Сверкают звезд золотые ресницы.И так прозрачна огней бесконечность,И так доступна вся бездна эфира,Что прямо смотрю я из времени в вечностьИ пламя твое узнаю, солнце мира.И неподвижно на огненных розахЖивой алтарь мирозданья курится,В его дыму, как в творческих грезах,Вся сила дрожит и вся вечность снится.И всё, что мчится по безднам эфира,И каждый луч, плотской и бесплотный, —Твой только отблеск, о солнце мира,И только сон, только сон мимолетный.Образы этого стихотворения загадочны, но при обращении к трудам Шопенгауэра легко разгадываются. Звездное небо, согласно Шопенгауэру, видит только человек, животным ни к чему смотреть на светящиеся точки; поэтому звезды у Фета приобретают человеческие ресницы. Воля равно проявляется и в бесконечных пространствах, и ближе всего к нам (кроме Платона и Канта своим предшественником Шопенгауэр считал прекрасного философа-мага Джордано Бруно, учившего, что пространство бесконечно и потому всегда ближе всего к нам и мы можем с ним магически общаться), поэтому бесконечная бездна эфира доступна нам здесь и сейчас. Солнце мира, ярость воли, отражается в огненных розах произведений искусства, творческих порывах; и на этом творчестве построен мир, построена вся цивилизация и вообще наша возможность обитать в мире. Но мы должны прозревать вечность «в дыму» своих размышлений, причем с такой ясностью, которой учат нас «каждый луч, плотской и бесплотный». Только тогда мы в истинном сне сами станем истинным бытием.
Александр Марков Профессор РГГУ и ВлГУ, в.н.с. МГУ имени М.В. Ломоносова, 17 февраля 2018 г.Ob nicht Natur zulezt sich doch ergründe?
И не раскроется ли, наконец, природа?
ГетеПредисловие к первому изданию
Я хочу объяснить здесь, как следует читать эту книгу, для того чтобы она была возможно лучше понята. То, что она должна сообщить, заключается в одной-единственной мысли. И тем не менее, несмотря на все свои усилия, я не мог найти для ее изложения более короткого пути, чем вся эта книга.
Я считаю эту мысль тем, что очень долго было предметом исканий под именем философии, что именно поэтому людьми исторически образованными было признано столь же невозможно найти, как и философский камень, хотя уже Плиний сказал им: «Сколь многое считают невозможным, пока оно не осуществится» (Hist. nat. 7, 1).
Смотря по тому, с какой из различных сторон рассматривать эту единую мысль, она оказывается и тем, что назвали метафизикой, и тем, что назвали этикой, и тем, что назвали эстетикой. И, конечно, она должна «быть всем этим», если только она действительно есть то, за что я ее выдаю.
Система мыслей должна постоянно иметь связь архитектоническую, т. е. такую, где одна часть всегда поддерживает другую, но не поддерживается ею, где краеугольный камень поддерживает, наконец, все части, сам не поддерживаемый ими, и где вершина поддерживается сама, не поддерживая ничего. Наоборот, одна-единственная мысль, как бы ни был значителен ее объем, должна сохранить совершенное единство. Если тем не менее в целях передачи она допускает разделение на части, то связь этих частей все-таки должна быть органической, т. е. такой, где каждая часть настолько же поддерживает целое, насколько она сама поддерживается им, где ни одна не первая и не последняя, где вся мысль от каждой части выигрывает в ясности и даже самая малая часть не может быть вполне понята, если заранее непонято целое. Между тем книга должна иметь первую и последнюю строку, и потому в этом отношении она всегда остается очень непохожей на организм, как бы ни походило на него ее содержание: между формой и материей здесь, таким образом, будет противоречие.
Отсюда ясно, что при таких условиях для проникновения в изложенную мысль нет иного пути, как прочесть эту книгу два раза, и притом в первый раз с большим терпением, которое можно почерпнуть только из благосклонного доверия, что начало почти так же предполагает конец, как конец – начало, и каждая предыдущая часть почти так же предполагает последующую, как последующая – первую. Я говорю «почти», ибо вполне так дело не обстоит, но честно и добросовестно сделано все возможное для того, чтобы сначала изложить то, что менее всего объясняется лишь из последующего, как и вообще сделано все, что может способствовать предельной отчетливости и внятности. До известной степени это могло бы и удаться, если бы читатель во время чтения думал только о сказанном в каждом отдельном месте, а не думал (что очень естественно) и о возможных оттуда выводах, благодаря чему, кроме множества действительно существующих противоречий мнениям современности и, вероятно, самого читателя, приходят еще много других, предвзятых и воображаемых. В результате возникает страстное неодобрение там, где пока есть только неверное понимание, тем менее признаваемое, однако, в качестве такового, что обретенная с трудом ясность слога и точность выражения, хотя и не оставляют сомнений в непосредственном смысле сказанного, но не могут одновременно обозначить и его отношений ко всему остальному. Поэтому, как я уже сказал, первое чтение требует терпения, почерпнутого из доверия к тому, что во второй раз многое или все покажется совершенно в ином свете. Кроме того, серьезная забота о полной и даже легкой понятности при очень трудном предмете должна служить извинением, если кое-где встретится повторение. Уже самый строй целого – органический, а не похожий на звенья цепи – заставлял иной раз касаться одного и того же места дважды. Именно этот строй, а также очень тесная взаимосвязь всех частей не позволили мне провести столь ценимое мною разделение на главы и параграфы и принудили меня ограничиться четырьмя главными разделами – как бы четырьмя точками зрения на одну мысль. Однако в каждой из этих четырех книг надо особенно остерегаться, чтобы из-за обсуждаемых по необходимости деталей не потерять из виду главной мысли, к которой они принадлежат, и последовательного хода всего изложения. Вот первое и, подобно следующим, неизбежное требование, предъявляемое неблагосклонному читателю (неблагосклонному к философу, потому что читатель сам – философ).