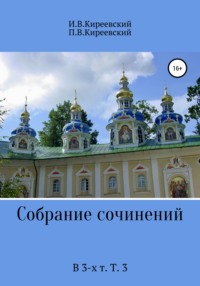Полная версия
Полное собрание сочинений: В 4-х т. Т. 2. Литературно-критические статьи, художественные произведения и собрание русских народных духовных стихов / Сост., научн. ред. и коммент. А. Ф. Малышевского
Для чего хвалить прекрасное не так же легко, как находить недостатки? С каким бы восторгом высказали мы всю несравненность тех наслаждений, которыми мы одолжены поэту и которые, как самоцветные камни в простом ожерелье, блестят в однообразной нити жизни русского народа!
В упомянутой сцене из «Бориса Годунова» особенно обнаруживается зрелость Пушкина. Искусство, с которым представлен, в столь тесной раме, характер века, монашеская жизнь, характер Пимена, положение дел и начало завязки; чувство особенное, трагически спокойное, которое внушают нам жизнь и присутствие летописца; новый и разительный способ, посредством которого поэт знакомит нас с Гришкою; наконец, язык неподражаемый, поэтический, верный, – все это вместе заставляет нас ожидать от трагедии, скажем смело, чего-то великого.
Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен[15], чтобы быть лириком; в каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика.
Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспрестанное усовершенствование, но еще утешительнее видеть сильное влияние, которое поэт имеет на своих соотечественников. Не многим, избранным судьбою, досталось в удел еще при жизни наслаждаться их любовью. Пушкин принадлежит к их числу, и это открывает нам еще одно важное качество в характере его поэзии: соответственность с своим временем.
Мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа, разделять надежды своего отечества, его стремление, его утраты – словом, жить его жизнию и выражать его невольно, выражая себя. Пусть случай такое счастье, но не так же ли мало зависят от нас красота, ум, прозорливость, все те качества, которыми человек пленяет человека? И ужели качества сии существеннее достоинства отражать в себе жизнь своего народа?
§ 2. Нечто о переводе «Манфреда» (Отрывок из письма к издателю)[16]
Ты хочешь печатать «Манфреда»[17], перевод покойного Д. А. О.[18] Стихи в нем по большей части хороши и сильны, а потому он будет, конечно, не лишний в твоем журнале. Но несмотря на то, мне бы не хотелось, чтобы он был напечатан. О. был человек необыкновенный во всех отношениях; тетради, которые он оставил после себя и которые, может быть, дойдут когда-нибудь до сведения публики, докажут глубокость и силу его ума и ясность его фантазии. До сих пор он был известен только своим переводом Баттё[19], который, говорят, хорош; – я не читал его. Но когда он вышел, переводчику не было еще 16 лет. С тех пор почти до самого конца своей жизни (он умер 37-ми лет, в конце прошлого 1827 года) О. занимался исключительно и постоянно науками умозрительными. Математика, метафизика и теория языков разделяли почти все его время. Два года тому назад ему случайно попался Байрон, которого он прежде не знал. Прочесть «Манфреда», перевести его, выправить и переписать – для этого, не оставляя обыкновенных своих занятий, употребил О. менее двух недель, не занимавшись стихами уже более двадцати лет. Переводя единственно из удовольствия переводить, он во многом отступал от подлинника, многое выпустил, иное изменил, так что его «Манфреда» можно скорее назвать подражанием Байрону, нежели переводом. Такую неверность многие назовут недостатком, и они будут правы. Вот почему мне бы не хотелось, чтобы ты печатал эту пиесу. Из нее публика узнает О. только как переводчика, который, хотя выше посредственных, но далеко не отличный, между тем как он – повторяю тебе – был человек во всех отношениях необыкновенный, и для тех, которые знали его и обстоятельства, сопровождавшие перевод, самый «Манфред» был новым доказательством силы и гибкости его дарований.
§ 3. Обозрение русской словесности за 1829 год[20]
Прежде нежели мы приступим к обозрению словесности прошедшего года, я прошу просвещенных читателей обратить внимание на сочинение, которое хотя вышло ранее 29 года, но имело влияние на его текущую словесность; которое должно иметь еще большее действие на будущую жизнь нашей литературы; которое успешнее всех других произведений русского пера должно очистить нам дорогу к просвещению европейскому; которым мы можем гордиться перед всеми государствами, где только выходят сочинения такого рода; которого издание (выключая, может быть, учреждение ланкастерских школ) было самым важным событием для блага России в течение многих лет и важнее наших блистательных побед за Дунаем и Араратом, важнее взятия Эрзерума и той славной тени, которую бросили русские знамена на стены царьградские. Эта книга – читатель уже назвал Ценсурный устав[21].
Влияние его на текущую словесность прошедшего года, хотя мало приметное, было тем не менее действительно. Наши журналы заимствовали более из журналов иностранных; переводы, хотя по большей части дурные, передавали нам более следов умственной жизни наших соседей, и оттого вся литература наша неприметно приближалась более к жизни общеевропейской. Самые перебранки наших журналов, их неприличные критики, их дикий тон, их странные личности, их вежливости негородские – все это было похоже на нестройные движения распеленатого ребенка, движения, необходимые для развития силы, для будущей красоты и здоровья.
Но, чтобы вернее определить особенность нашей литературы прошедшего года, открыть в ней признаки господствующего направления нашей словесности вообще и ее отношение к целостному просвещению Европы, бросим беглый взгляд на характер всей литературы нашей девятнадцатого столетия, ибо одно прошедшее дает цену и указывает место настоящему, определяя дорогу для будущего.
Литературу нашу девятнадцатого столетия можно разделить на три эпохи, различные особенностью направления каждой из них, но связанные единством их развития. Характер первой эпохи определяется влиянием Карамзина, средоточием второй была муза Жуковского, Пушкин может быть представителем третьей.
Начало девятнадцатого столетия в литературном отношении представляет резкую противоположность с концом восемнадцатого. В течение немногих лет просвещение сделало столь быстрые успехи, что с первого взгляда они являются неимоверными. Кажется, кто-то разбудил полусонную Россию. Из ленивого равнодушия она вдруг переходит к жажде образования, ищет учения, книг, стыдится своего прежнего невежества и спешит породниться с иноземными мнениями. Когда явился Карамзин, уже читатели для него были готовы, а его удивительные успехи доказывают не столько силу его дарований, сколько повсюду распространившуюся любовь к просвещению.
Но остановимся здесь и подивимся странностям судьбы человеческой. Тот, кому просвещение наше обязано столь быстрыми успехами, кто подвинул на полвека образованность нашего народа, кто всю жизнь употребил во благо отечества и уже видел плоды своего влияния на всех концах русского царства, человек, которому Россия обязана стольким, – он умер недавно, почти всеми забытый, близ той Москвы, которая была свидетельницею и средоточием его блестящей деятельности. Имя его едва известно теперь большей части наших современников; и если бы Карамзин не говорил о нем[22], то, может быть, многие, читая эту статью, в первый раз услышали бы о делах Новико́ва и его товарищей и усомнились бы в достоверности столь близких к нам событий. Память о нем почти исчезла; участники его трудов разошлись, утонули в темных заботах частной деятельности; многих уже нет, но дело, ими совершенное, осталось: оно живет, оно приносит плоды и ищет благодарности потомства.
Новиков не распространил, а создал у нас любовь к наукам и охоту к чтению. Прежде него, по свидетельству Карамзина, были в Москве две книжные лавки, продававшие ежегодно на 10 тысяч рублей; через несколько лет их было уже 20, и книг продавалось на 200 тысяч. Кроме того, Новиков завел книжные лавки в других и в самых отдаленных городах России, распускал почти даром те сочинения, которые почитал особенно важными, заставлял переводить книги полезные, повсюду распространял участников своей деятельности, и скоро не только вся Европейская Россия, но и Сибирь начала читать. Тогда отечество наше было, хотя ненадолго, свидетелем события, почти единственного в летописях нашего просвещения: рождение общего мнения[23].
Так действовал типографщик Новиков. Замечательно, что почти в то же время другой типографщик, более славный, более счастливый, типографщик Франклин, действовал почти таким же образом на противоположном конце земного шара, но последствия их деятельности были столь же различны, сколько Россия отлична от Соединенных Штатов.
Может быть, сам Карамзин обязан своею первою образованностью Новикову и его друзьям-единомышленникам. По крайней мере, в их кругу началось первое развитие его блестящих дарований, и он оставил нам трогательное описание своей дружбы с одним из них, с г-м П[24]. Говорить ли о другом товарище Новикова, об этом славном Ленце[25], о надежде и удивлении просвещенной Европы, который у нас, в нищете и крайности, замерз на большой дороге[26]!
Карамзин застал свою публику под влиянием мистицизма, странно перемешанного с мнениями французскими из середины восемнадцатого столетия. Этим двум направлениям надлежало сосредоточиться, и они естественно соединились в том филантропическом образе мыслей, которым дышат все первые сочинения Карамзина. Кажется, он воспитан был для своей публики, и публика для него. Каждое слово его расходилось по всей России, прозу его учили наизусть и восхищались его стихами, несмотря на их непоэтическую отделку, – так согласовался он с умонаклонностью своего времени. Между тем всеобщность его влияния доказывает нам, что уже при первом рождении нашей литературы мы в самой поэзии искали преимущественно философии и за образом мнения забывали образ выражения. До сих пор еще мы не знаем, что такое вымысел и фантазия; какая-то правдивость мечты составляет оригинальность русского воображения, и то, что мы называем чувством, есть высшее, что мы можем постигнуть в произведениях стихотворных.
Направление, данное Карамзиным, еще более открыло нашу словесность влиянию словесности французской. Но именно потому, что мы в литературе искали философии, искали полного выражения человека, образ мыслей Карамзина должен был и пленить нас сначала, и впоследствии сделаться для нас неудовлетворительным. Человек не весь утопает в жизни действительной, особенно среди народа недеятельного. Лучшая сторона нашего бытия, сторона идеальная, мечтательная, та, которую не жизнь нам дает, но мы придаем нашей жизни, которую преимущественно развивает поэзия немецкая, – оставалась у нас еще невыраженною. Французско-карамзинское направление не обнимало ее. Люди, для которых образ мыслей Карамзина был довершением, венцом развития собственного, оставались спокойными; но те, которые начали воспитание мнениями карамзинскими, с развитием жизни увидели неполноту их и чувствовали потребность нового. Старая Россия отдыхала, для молодой нужен был Жуковский.
Идеальность, чистота и глубокость чувств, святость прошедшего, вера в прекрасное, в неизменяемость дружбы, в вечность любви, в достоинство человека и благость Провидения; стремление к неземному; равнодушие ко всему обыкновенному, ко всему, что не душа, что не любовь, – одним словом, вся поэзия жизни, все сердце души, если можно так сказать, явилось нам в одном существе и облеклось в пленительный образ музы Жуковского. В ее задумчивых чертах прочли мы ответ на неясное стремление к лучшему и сказали: «Вот чего не доставало нам!» Еще большею прелестью украсили ее любовь к отечеству, ужас и слава народной войны[27].
Но поэзия Жуковского, хотя совершенно оригинальная в средоточии своего бытия (в любви к прошедшему, которую можно назвать господствующим тоном его лиры)[28], была, однако же, воспитана на песнях Германии. Она передала нам ту идеальность, которая составляет отличительный характер немецкой жизни, поэзии и философии; и таким образом в состав нашей литературы входили две стихии: умонаклонность французская и германская.
Между тем лира Жуковского замолчала. Изредка только отрывистые звуки знакомыми переливами напоминали нам о ее прежних песнях. Но развитие духа народного не могло остановиться. Как мысль зовет звук, так народ ищет поэта. Ему необходим наперсник, который бы сердцем отгадывал его внутреннюю жизнь, а в восторженных песнях вел дневник развитию господствующего направления. Поэт для настоящего – что историк для прошедшего: проводник народного самопознания.
Литература наша, как мы уже сказали, представляла два борющиеся начала, но и филантропизм французский и немецкий идеализм совпадались в одном стремлении: в стремлении к лучшей действительности. Пушкин выразил его сначала под светлою краскою доверчивой надежды, потом под мрачным покровом байроновского негодования к существующему.
Но ни то, ни другое не могло быть продолжительным: это две крайности колебания маятника, ищущего равновесия. Между безотчетностью надежды и байроновским скептицизмом есть середина: это доверенность судьбе и мысль, что залог желанного будущего заключен в действительности настоящего; что в необходимости есть Провидение; что, если прихотливое создание мечты гибнет, как мечта, зато из совокупности существующего должно образоваться лучшее прочное. Оттуда уважение к действительности, составляющее средоточие той степени умственного развития, на которой теперь остановилось просвещение Европы и которая обнаруживается историческим направлением всех отраслей человеческого бытия и духа.
История в наше время есть центр всех познаний, наука наук, единственное условие всякого развития – направление историческое обнимает {все}. Политические мнения для приобретения своей достоверности должны обратиться к событиям, следовательно, к истории: так Тьерри, чтобы защитить некоторые положения в парламенте, написал историю Франции[29]. Философия, сомкнувши круг своего развития сознанием торжества ума и бытия, устремила всю деятельность на применение умозрений к действительности, к событиям, к истории природы и человека. Математика остановилась в открытии общих законов и обратилась к частным приложениям, к сведению теории на существенность действительности. Поэзия, выражение всеобщности человеческого духа, должна была также перейти в действительность и сосредоточиться в роде историческом.
Век не мог не иметь влияния и на Пушкина: мы увидим это, говоря о Полтаве. Но обратимся теперь к прошедшему году: теперь, с высоты общей мысли, нам будет легче обнять весь горизонт нашей словесности и указать настоящее место ее частным явлениям.
После всего будем мы говорить об наших журналах и альманахах. О других изданиях временных, хотя и непериодических, упомянем только в отношении к важнейшим сочинениям или в пример и доказательство некоторых оттенков характера нашей литературы; но преимущественно обратимся к тем первоклассным произведениям нашей словесности, которые блеснули на литературном небе прошедшего года так ярко, как близкие кометы, и утвердились на нем так прочно, как неподвижные звезды, чтобы навсегда светить и указывать путь.
Первое, что привлекает здесь наше внимание, это XII том «Истории Российского государства»[30], последний плод трудов великих, последний подвиг жизни полезной, священной для каждого русского. XII том «Истории Российского государства», кажется, еще превзошел прежние силою красноречия, обширностью объема, верностью изображений, ясностью, стройностью картин и этим ровным блеском, этою чистотою, твердостью бриллиантовою карамзинского слога. Вообще достоинство его «Истории» растет вместе с жизнию протекших времен. Чем ближе к настоящему, тем полнее раскрывается перед ним судьба нашего отечества; чем сложнее картина событий, тем она стройнее отражается в зеркале его воображения, в этой чистой совести нашего народа. Не место здесь входить в подробный разбор Карамзина и не по силам нам оценить его достоинство. В молчании почтим память бессмертного и с благоговением принесем дань благодарности и удивления на его свежую могилу.
Но как умолчать о его критиках, делавших столько шуму в нашей литературе? Почти каждое произведение Карамзина было яблоком раздора для нашей полупросвещенной словесности. Это тем удивительнее, что Карамзин ни разу не отвечал ни на одну критику и не оскорбил ни одного самолюбия; что возвышенность и до конца неизменившаяся чистота его души и жизни не оставили никакого оправдания для личной вражды; что, наконец, слава его, казалось, не могла не заглушить внушений низкой зависти. Несмотря на то, сколь немногие из критиков сохранили в глазах публики характер беспристрастия! Но если Карамзин имел врагов, зато истинными друзьями никто не был счастливее Карамзина и никто не имел стольких почитателей, стольких поклонников, стольких горячих защитников своей славы. Оттого первый шаг его в область словесности уже был ознаменован рождением партий. Они разделяли почти всю просвещенную Россию на две неравные стороны, не засыпали в продолжение всей жизни Карамзина и пережили его земное существование. Чем выше звезда, тем гуще толпа родных звезд вокруг нее, тем больше места для темных туч под нею.
Всех критиков «Истории Российского государства» можно разделить на два класса: к первому принадлежат критики, нападающие на частные ошибки, неизбежные в труде столь огромном, столь несоразмерном с силами одного человека. Долго еще не изведать нам вполне бездонного моря народной жизни, затемненного его отдаленностью и мутностью источников! Признательности просвещенных заслуживают люди, посвятившие себя изучению древности, когда с достаточными силами, с простотою, с должным уважением к бессмертному историку они исправляют погрешности, которые естественно должны были вкрасться в его «Историю». Но так ли поступает большая часть наших критиков? В темных подвалах архивских они теряют всякое чувство приличия и выходят оттуда с червями самолюбия и зависти, с пылью мелких придирок и в грязи неуважения к достоинству. Сюда принадлежат некоторые статьи, помещенные в «Московском вестнике» 28 и 29 годов и заслужившие справедливое негодование всех друзей русской истории и покойного историографа[31]. Но все справедливое справедливо только в границах, и те, которые, за помещение сих статей, поставили издателя в один разряд с сочинителем и включили его в число противников Карамзина, столько же не правы, сколько сам издатель, поместивший сии статьи. Если последний нашел в них замечания, казавшиеся ему истинными, то, по моему мнению, он должен был требовать от автора исключения всего неприличного и в случае отказа, совсем не печатать его рецензий, с потерею которых публика потеряла бы весьма немного. Но если г. Погодин поступил иначе, то он заслуживает упрек как журналист, а не как человек и писатель, не имеющий должного уважения к Карамзину. Собственные сочинения г. Погодина служат тому лучшим доказательством.
Второй разряд критиков нападает на систему и план целого, на понятия историографа об истории вообще[32]. Они обвиняют Карамзина в том, что он не обнимает всех сторон и оттенков нашей прошедшей жизни. Но критики не чувствуют, что если упреки их справедливы, то они служат не порицанием, а похвалою «Истории Российского государства» Ибо невозможно обнять народной жизни во всех ее подробностях, покуда частные отрасли ее развития не обработаны в отдельных творениях и не сведены к последним выкладкам. Оттого из стольких историков, признанных за образцовых, критики не назовут нам двух, писавших по одному плану. Напротив того, каждый бытописатель избирал и преследовал преимущественно одну сторону жизни описываемого им государства, оставляя прочие в тени и в отдалении. Если Карамзин, следуя их примеру, ограничился преимущественным изложением политических событий и недосказал многого в других отношениях, то это ограниченье было единственным условием возможности его успеха; и нам кажется весьма странным упрекать Карамзина за неполноту ее картины тогда, когда и с этой неполной картины мы еще до сих пор не можем снять даже легкого очерка, чтобы оценить ее как должно. Пусть люди с талантом пишут другие истории, пусть изберут они средоточием своих изысканий частную жизнь нашего народа, или изменение наших гражданских постановлений, или воспитание нашего просвещения, или ход и успехи торговли, или монеты и медали – труд их может быть полезен, и достижение цели возможно, ибо они пойдут по дороге, уже прочищенной.
Кроме сих двух разрядов есть еще третий род критиков, которым самая ничтожность их дает право на особенный класс: это критики-невежды. Равно бедные познаниями историческими и литературными, лишенные даже поверхностного понятия об общих положениях науки и совершенно бесчувственные к приличиям нравственным, они слабыми руками силятся пошатнуть творение вековое, переворачивают смысл в словах писателя великого, смеют приписывать ему собственное неразумие и хотят учить детским истинам мужа бессмертного, гордость России. Даже достоинство учености думают они отнять у «Истории» Карамзина и утверждают, что она писана для одних светских невежд, они, невежи несветские! Все бесполезно, что они говорят; все ничтожно, все ложь – даже самая истина; и если случайно она вырвется из уст их, то, краснея, спешит снова спрятаться в свой колодезь, чтобы омыться от их осквернительного прикосновения. Я не называю никого: читатель сам легко отличит этот разряд судей непризванных по той печати отвержения, которою украсило их литературное и нравственное невежество, положив клеймо своей таможни на их контрабандное лицо. Оставим их.
Но с удовольствием укажем на критику, в которой дельность и беспристрастие разысканий соединяются с приличностью тона: это статья, напечатанная в 3-м номере «Московского вестника» «О участии Годунова в убиении Димитрия»[33].
Кроме XII тома «Российской истории», в прошедшем году вышло у нас, если верить журналам, еще одно сочинение историческое, замечательное по достоинству литературному, – это «Полтава» Пушкина. В самом деле, из двадцати критик, вышедших на эту поэму, более половины рассуждало о том, действительно ли согласны с историей описанные в ней лица и происшествия[34]. Критики не могли сделать большей похвалы Пушкину.
Мы видели, что одно стремление воплотить поэзию в действительность уже доказывает и большую зрелость мечты поэта, и его сближение с господствующим характером века. Но всегда ли поэт был верен своему направлению? И, переселив воображение в область существенности, нашел ли он в ней полный ответ на все требования поэзии? Или выступал иногда из круга действительности, как бы видя в нем арфу, у которой недостает еще нескольких струн, чтобы выразить все движения души?
Кроме голой существенности и дополнительной думы поэта (которая также существенность), мы еще находим в «Полтаве» иногда думу, противоречащую действительности, иногда порыв чувства, несогласный с тем шекспировским состоянием духа, в котором должен находиться творец, чтобы смотреть на внешний мир как на полное отражение внутреннего. В доказательство укажем на два места «Полтавы»: на софизм о любви стариков и на романическую чувствительность Мазепы, когда он узнает хутор Кочубея[35]. И то, и другое противоречит истине, но и то, и другое делает минутный эффект. Это сцена из Корнеля, вплетенная в трагедию Шекспира.
Такое борение двух начал, мечтательности и существенности, должно необходимо предшествовать их примирению. Это переход с одной степени на другую, и в наше время не один Пушкин может служить примером такого разногласия. Им дышит большая часть трагедий Шиллера, все трагедии Раупаха, Фр. Шлегеля[36], Грильпарцера и почти все произведения новейших немецких писателей; французская мелодрама обязана ему своим происхождением; иногда мы находим его даже у Вальтера Скотта, когда для возбуждения большего любопытства он вводит своих героев в положения неестественные; сам Гете, великий Гете, даже в «Эгмонте» наклонился один раз перед своим веком, олицетворив свободу Фландрии[37].
Но та зрелость таланта, которую доказывает господствующий, хотя и не везде выдержанный характер «Полтавы», заметна также и в отдельных частях сей поэмы. Об ней свидетельствуют и мастерская обработка стихов, и сжатая полнота рассказа, и стройность переходов, особливо в первой песне, и ясная выразительность картин, и даже некоторая небрежность в языке и в описаниях. Вообще если мы будем смотреть на «Полтаву» как на зеркало дарования, то увидим, что она дает нам право на большую надежду в будущем, нежели все прежние поэмы Пушкина. Но зато если мы будем рассматривать ее в отношении к ней самой, то найдем в ней такие несовершенства, которые хотя несколько объясняют нам, почему публика приняла ее не с таким восторгом, какой обыкновенно возбуждают в ней произведения Пушкина. Главное из сих несовершенств есть недостаток единства интереса, единственного из всех единств, которого несоблюдение не прощается законами либеральной пиитики. Если бы поэт сначала возбудил в нас участие любви или ненависти к политическим замыслам Мазепы, тогда и Петр, и Карл, и Полтавская битва были бы для нас развязкою любопытного происшествия. Но посвятив первые две песни преимущественно истории любви Мазепы и Марии, Пушкин окончил свою повесть вместе с концом второй песни, и в отношении к главному интересу поэмы всю третью песнь можно назвать почти лишнею.