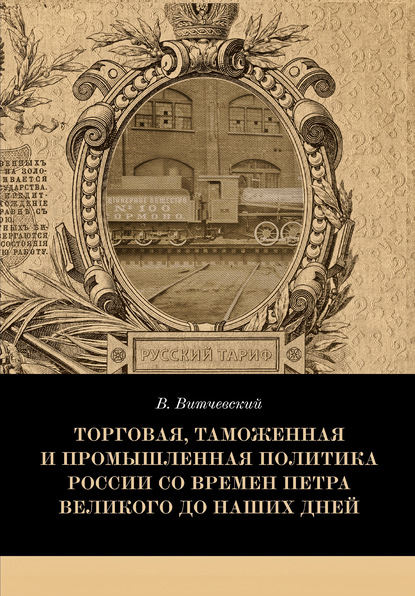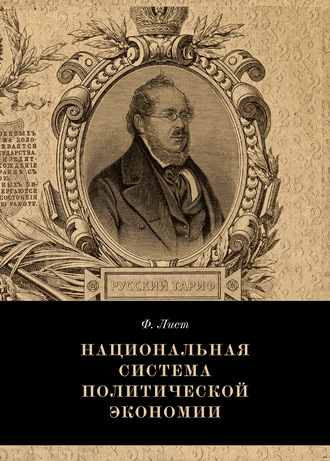
Полная версия
Национальная система политической экономии
Мне очень больно, что в тот самый момент, когда организуется подписка на памятник[22] Роттеку, я принужден открыто высказать заключение, что он не имел ясного представления ни о международной торговле, ни о торговой политике, ни о системах, ни о практическом применении политической экономии. По справедливости, однако, меня извинят в этом, если обратят внимание на то, что в приводимом здесь из одного из последних его сочинений месте Роттек не только строго, но и совершенно неверно осудил меня и мою деятельность[23] и тем поставил меня в необходимость защищаться.
Упрек Роттека в том, что я, вместо того чтобы указать на отлив звонкой монеты и на обеднение государства, выражаю сетования лишь на бедственное положение фабрикантов, что система германского торгового союза частью невыполнима, частью связана с некоторыми невыгодами, – этот упрек носит те же следы, какие заметны на всем почти, что говорит Роттек в своей главе о государственном хозяйстве, – следы незнания. Если прочтут мою книгу и потом приступят к чтению указанной главы, то, надеюсь, не признают такой приговор несправедливым. Пусть прочтут только то, что сказано в моей XXVII главе о принципе реторсии, и проследят затем выводы Роттека, тогда убедятся, что Роттек несправедливо переносит на почву права чистый вопрос о промышленном воспитании наций, что он рассматривает его не как эконом-националист, а как профессор государственного права. Это полное незнакомство с моей деятельностью и с моим значением как экономиста, это нападение дает мне полное право сказать в свое оправдание следующее: было бы гораздо благоразумнее, если бы Роттек в своих сочинениях и в своих депутатских речах великодушно признался, что он не имеет ни малейшего практического опыта в вопросах международной торговли и торговой политики, и что политическая экономия для него составляет совершенно неизвестную область, вместо того чтобы позволять себе о том и другом предмете такие рассуждения, которые наносят явный ущерб его авторитету в других областях. Пусть вспомнят, что гг. Роттек и Велькер, несмотря на прежнее заявление, что они ничего не понимают в торговле, все-таки в Баденской палате сильнейшим образом протестовали против вступлений Бадена в большой германский торговый союз. Хорошо знакомый с тем и другим, я услышав, что они перешли на ту сторону, позволил себе обратиться к ним по этому случаю с настойчивыми убеждениями, на что и получил довольно колкий публичный ответ. Имели ли влияние или нет эти убеждения на недоброжелательный приговор Роттека, вопрос этот я оставлю открытым.
Пелиц, который ни в каком случае не был самостоятельным мыслителем и во всем обнаружил недостаток опыта, в данном случае был лишь компилятором. Какие мнения высказывал по вопросам политической экономии этот бездарный ученый, занимавший первую в Германии кафедру политических наук, можно судить по одному примеру. В то время как в Лейпциге умные люди поднимали меня на смех за предложенную мной лейпцигско-дрезденскую железную дорогу и за мою германскую железнодорожную систему, я обратился к г. Пелицу за помощью и советом и получил такой ответ: теперь еще невозможно с уверенностью сказать, насколько полезно и необходимо это предприятие, так как невозможно предвидеть, в какую сторону направится на будущее время товарное движение. Этот глубокомысленный теоретический вывод перешел затем, если не ошибаюсь, и в его печальной памяти ежегодники.
Когда я в первый раз встретился с Лотцем, я позволил себе скромно изложить ему некоторые новые взгляды на политическую экономию, с целью вызвать его на сообщение его воззрений и тем исправить мои собственные. Г. Лотц не пожелал входить в объяснения, но лицо его приняло смешанное не то важное, не то ироническое выражение, и это ясно показало мне, что он считал свое положение настолько высоким, что не находил возможным вступать со мной в какие бы то ни было рассуждения. Он сказал, впрочем, несколько слов, смысл которых был тот, что рассуждения о научных предметах между дилетантами в науке и глубокомысленными учеными не могут привести ни к чему. В то время я уже целых пятнадцать лет не пересматривал сочинения Лотца, и мое уважение к их автору, таким образом, восходило к давнему времени. Такой прием показал мне ясно истинное достоинство сочинений Лотца – прежде еще, чем я снова их перечел. Как может, думал я, человек, избегающий опыта, создать что-нибудь дельное в опытной науке, какой является политическая экономия?
Когда я затем снова взял в руки его толстые тома, прием г. Лотца для меня перестал быть загадкой. Ничего нет естественнее того, что авторы, которые только переписывают и перетолковывают своих предшественников и все свое знание почерпывают из книг, приходят в совершенное смущение и становятся в тупик, когда им приходится встретиться с данными опыта, противоречащими их школьному знанию, или с совершенно новыми идеями.
Граф Соден, которого я хорошо знал, был гораздо интереснее в разговоре, чем в своих сочинениях, и был необыкновенно либерален по отношению к высказываемым ему сомнениям и возражениям. Новостью в его сочинениях, главным образом, нужно признать метод и терминологию. К сожалению, эта последняя у него еще напыщеннее прежней и завлекла бы науку в схоластическую трясину еще глубже терминологии Смита и Сэя.
Вейтцель в своей истории политических наук о всех экономистах судит вполне с точки зрения космополитической школы.
Если я, по приведенным выше основаниям, воздерживаюсь от всякого упрека еще живым экономистам Германии, то это не мешает мне отдать справедливость всему хорошему и замечательному в сочинениях Небениуса, Германа, Моля и др.
Я большей частью, как видно будет ниже, соглашаюсь с идеями Небениуса в его сочинении о германском таможенном союзе, касающимися системы, которой следует держаться теперь этим союзам.
Так как это сочинение, очевидно, написано с целью повлиять в данный момент на дальнейшее развитие союза, то вполне целесообразно, что остроумный и оказавший столь важные услуги немецкой промышленности автор, совершенно пренебрегает теорией и практикой. Потому книга его и отличается всеми достоинствами и недостатками сочинения, написанного на случай. И если такое сочинение в данную минуту в состоянии оказать сильное влияние, то на будущее время оно не предохранит от заблуждений. Предположим, например, что англичане и французы отменили все пошлины на немецкие продукты сельского хозяйства и лесоводства – тогда, на основании соображений Небениуса, не оказалось бы более никаких оснований к поддержанию германской таможенной системы. В сочинении «Наука о полиции» Моля высказано очень много верных взглядов на таможенную систему; известно также и о Германе, какое сильное влияние оказывает он практически на усовершенствование германского таможенного союза и в особенности на развитие баварской промышленности.
При этом случае не могу не припомнить того обстоятельства, что немцы, в противность всем другим нациям, разделяют предметы политической экономии на две различные категории учений: под названием национальной экономии, политической экономии, государственного хозяйства и т. д. они преподают теорию космополитической системы по Смиту и Сэю; а в науке о полиции они рассматривают, насколько государственная власть имеет призвания проявлять вмешательство в производство, распределение и потребление материальных богатств. Сэй, выражающийся тем положительнее, чем меньше он знаком с тем, о чем говорит, язвительно замечает немцам, что они смешивают политическую экономию с учением о государственном управлении. Так как Сэй не знает немецкого языка и так как ни одного немецкого сочинения по предметам политической экономии не переведено на французский язык, то он должен был узнавать об этом предмете от кого-нибудь из путешествующих замечательных людей Парижа. Но такое разделение науки, дававшее до сих пор во всяком случае повод ко многим недоразумениям и противоречиям, в сущности показывает, что немцы гораздо ранее французов почувствовали, что существует экономия космополитическая и политическая, и они назвали первую национальной экономией, а вторую полицейской наукой.
В то время, когда я писал вышеизложенное, мне попалась под руки книга, которая побуждает меня сознаться в том, что я высказался об Адаме Смите гораздо снисходительнее, чем должен был то сделать по своему убеждению. Это вторая часть «Галереи портретов по разговорам и переписке Раэля», изданная Варгагеном фон Энзе. Мне хотелось знать, что здесь сказано об Адаме Мюллере и Фридрихе Гентце, которых я лично знал[24], но я нашел жемчужины совершенно не там, где их искал, а именно в переписке между Раэлем и Александром Марвитцом. Этот образованный молодой человек, готовясь к экзамену, читал и в то же время критиковал Адама Смита. В помещенной здесь выноске читатель увидит, что именно во время своих занятий он писал об Адаме Смите и о его немецкой школе[25]. И этот приговор – приговор, который содержит в двадцати строках все – все решительно, что можно сказать об Адаме Смите и его школе, произнес Марвитц после того, как прочел Адама Смита в первый раз. Он, юноша двадцати четырех лет, окруженный учеными, поклонявшимися, как Богу, Адаму Смиту, он один сильной и верной рукой низвергает и в дребезги разбивает их идола и смеется над глупостью его обожателей. И его, призванного открыть глаза своей родине, всему свету, сбили окончательно глупейшими вопросами на экзамене, окончание которого доставило бы ему столько радости. И он должен был умереть еще прежде, чем успел понять свое призвание. Величайший экономист Германии – единственный мыслящий в известном направлении – должен был умереть на чужбине. Напрасно будете искать его могилу. Раэль был единственной его публикой, и три мимоходом брошенных заметки в его интимных письмах являются единственными его трудами. Однако – что ж я говорю? Разве Марвитцем не были посланы Раэлю целых шесть кругом исписанных листов об Адаме Смите? Может быть они найдутся в оставленных Раэлем бумагах и может быть г. фон Варнгаген не откажется поделиться ими с немецкой публикой.
По правде, никогда я не чувствовал столь малым, как при чтении этих писем Марвитца. Ему – безбородому юноше – достаточно было двух недель для того, чтобы сорвать покрывало, скрывавшее кумира космополитической школы, а мне для этого потребовался целый ряд годов зрелого возраста. Особенно поразительна параллель между Наполеоном и Адамом Смитом, которую он очертил двумя словами: «они оба могущественнейшие монархи земли» – «опустошители земли» сказал бы он без сомнения, если бы такое выражение не было опасным в 1810 г. Какой широкий взгляд на великие мировые отношения! – какой ум!
После таких сообщений я хочу откровенно сознаться, что я перечеркал совершенно уже обработанную для этой книги главу об Адаме Смите единственно во внимание к тому преувеличенному уважению, которым пользуется его имя, и из боязни, чтобы мой откровенный приговор не объяснили моей заносчивостью.
То, что я сказал в этом первом труде, я не могу повторить здесь вполне, не увеличив предисловия до объема целой книги, так как я по крайней мере шесть печатных листов свел на один лист; я должен поэтому ограничиться лишь кратким извлечением. Я сказал, что политическая экономия в важнейших своих отделах, а именно в тех, которые касаются международной торговли и торговой политики, благодаря Адаму Смиту, сделала огромный попятный шаг; что, благодаря ему, в эту науку проник дух софистики, схоластики – темноты – лжи и лицемерия, что теория сделалась ареной сомнительных талантов и пугалом для большинства людей даровитых, опытных, со здравым пониманием и правильным суждением; что он дал в руки софистов доказательства, которыми они вводят в заблуждение нации относительно их современного состояния и будущего. Биограф его Дугальд Стюарт, как я помню, сообщает, что этот великий ум не мог покойно умереть прежде, чем все его бумаги не были сожжены, что невольно вызывает у меня как бы сильное подозрение в том, что в этих бумагах имелись доказательства против его искренности[26]. Я показал, как со времени Питта и до Мельбурна английские министры пользовались его теорией для того, чтобы в интересах Англии пускать пыль в глаза другим нациям. Я назвал его наблюдателем, глаз которого замечает лишь отдельные песчинки, комки земли, стебли травы или кусты, но не может охватить всей местности; я сравнил его с живописцем, который хотя и умеет с поразительной верностью передавать частности, но не в силах со единить их в одно гармоническое целое, и нарисовал чудовище, различные члены которого, превосходно переданные, принадлежат различным телам.
Как на характеристическое отличие созданной мной системы я указываю на национализм. На сущности национализма, как среднего члена между понятиями индивидуализма и человечества зиждется все мое здание. Долго думал я о том, не следует ли мне назвать свою систему натуральной [естественной] системой политической экономии, название, которое также было бы правильным и, может быть, в некоторых отношениях было бы даже лучше того, на котором я остановился, тем более что я все предшествовавшие системы представлял основанными не на сущности вещей и стоящими в противоречии с уроками истории. Но от этого намерения я был удержан замечанием одного из моих друзей, что люди поверхностные, привыкшие судить о книгах по их заглавиям, могут принять мое сочинение за простое изложение системы физиократов.
При этой работе у меня вовсе не было желания подслужиться к какой-либо ученой партии или получить право на занятие кафедры политической экономии, или заслужить известность автора руководства, принятого всеми факультетами, или дать доказательство моей годности для занятия какой-либо государственной должности; я имею ввиду лишь немецкие национальные интересы, и эта цель настойчиво требовала от меня свободного выражения моих убеждений без примеси составных частей, которые хотя и не были бы приятными для вкуса и обоняния, но зато оказали бы надлежащее действие, – и прежде всего – популярного изложения. Если теория экономической экономии должна преследовать в Германии национальные интересы, то она должна из кабинетов ученых и высших государственных сановников и с профессорских кафедр перейти в конторы фабрикантов, оптовых негоциантов, кораблехозяев, капиталистов и банкиров, в бюро всех чиновников и адвокатов, в дома собственников, в особенности же в палаты земских собраний, одним словом она должна сделаться общественным достоянием всех образованных людей нации. Только при этом условии торговая система германского таможенного союза получит ту устойчивость, без которой, даже при самых лучших намерениях, даровитейшие государственные люди будут приносить лишь зло и вред. Настоятельная потребность в такой устойчивости и важность общественного мнения, просвещенного и укрепленного свободой прений, нигде не проявляются с такой очевидностью, как в вопросах о торговых договорах. Метуэнские договоры (Methuen-Vertäge) могут заключаться только в таких странах, где мнение кабинета министров – всё, а общественное мнение – нуль. Новейшная история германской торговой политики ставит верность этого замечания вне всякого сомнения. Если где гласность является гарантией для трона (а таковой она является везде, где она возбуждает национальные силы, расширяет общественный кругозор и контролирует администрацию в интересах нации), то это в вопросах промышленности и торговой политики. Немецкие князья никаким другим способом не могут лучше охранить свои династические интересы, как предоставив и, по силе возможности, возбуждая и поддерживая свободу открытому обсуждению вопросов, касающихся материальных интересов нации. Но чтобы это обсуждение было вполне разумно, особенно необходимо, чтобы теория политической экономии и практический опыт других народов сделались общим достоянием всех мыслящих людей страны.
Поэтому, при обработке настоящего сочинения, я главным образом старался быть ясным и понятным, даже в ущерб стилистической выработке и рискуя показаться не ученым и не глубоким. Я был поражен поэтому, когда один из моих друзей, прочитав некоторые главы, сказал, что «он встретил там прекрасные места». Я не желал, чтобы в моей книге были такие места. Красота стиля не составляет потребности для национальной экономии – это не только не достоинство, напротив, это недостаток в национально-экономическом труде, так как к красоте стиля нередко прибегают для того, чтобы прикрыть недостаток или слабость логики и выдать софистические доказательства за основательные и глубокомысленные. Ясность, общедоступность – вот главная потребность в изложении этой науки. Глубокомысленные, по-видимому, силлогизмы, напыщенные фразы и изысканные выражения необходимы только тем, у которых не хватает проницательности, чтобы понимать сущность вещей, тем, которые плохо понимают самих себя и потому не имеют средств сделать себя понятными для других.
Не следовал я также моде, требующей массы цитат. Я прочел сочинений в сто раз больше, нежели у меня их указано. Но, кажется, я заметил, что большинство читателей, которые из науки не делают профессии, и может быть из них самые умные и любознательные, испытывают страх и робость, когда им приводят целые легионы литературных свидетелей и авторитетов. Поэтому я не желал бесполезно занимать место, в котором я так нуждался. Я вовсе, однако, не хочу утверждать, что обильные цитаты в руководствах, трудах исторических и т. д. не составляют их большого достоинства, я хочу только дать понять, что я не имел намерения писать руководство.
Нужно думать, что я оказываю немаловажную услугу немецкой бюрократии, представляя ей соответствующую ее практике теорию и разъясняя ошибки тех, которые никогда не относились к ней с особенным уважением. Конечно, разногласие, господствующее между теорией и практикой, никогда не было особенно благосклонно к авторитету канцелярий. Неопытнейший студент, космополитические тетрадки которого едва успели высохнуть, считал непременной обязанностью изобразить на своем лице презрительную улыбку всякий раз, когда богатый опытом советник или дельный и мыслящий делец говорил о покровительственных таможенных пошлинах.
Не менее, думается, имеем мы право на одобрение и со стороны немецкого как богатого, так и бедного дворянства, которому мы показали, что оно, благодаря своим собственным собратам в Англии – ториям – частью обеднело, обанкротилось и разорилось, и что мы – промышленники и их органы – нашими усилиями в течение истекшего десятилетия поправили его положение; мы ему доказали, что на его долю поступает значительнейшая и лучшая часть меду, который мы носим в улей, потому что мы прилежно работаем для увеличения его арендной платы и ценности его поместий; что мы ему отдаем дочерей богатейших наших промышленников и таким образом богато вознаграждаем иссякшие после упразднения аббатств, епископов и архиепископов в немецком государстве источники его благосостояния и средства для воспитания его младших сыновей и остающихся без наследства дочерей – его родословное дерево мы деятельно взращиваем. Немецкому дворянству достаточно бросить один только взгляд на знать английскую, чтобы понять, сколько пользы могут и должны ему приносить богатство страны, обширная вывозная торговля, мореходство, флоты и колонии. А к чему ведут запущенное сельское хозяйство, нищенское и бесправное состояние городского сословия, закрепощение крестьян, возвышение знати над законом, феодализм и вся та пышность, о которой даже в самое последнее время вздыхали высокородные laudatores temporisacti[27], может выяснить один лишь взгляд на польскую знать и на ее современное положение. Пусть не смотрит поэтому немецкое дворянство на наши старания с завистью или враждой. Пусть дворянство сделается парламентарным, а прежде всего вполне национальным; пусть оно становится не против нас, а во главе нашего национального стремления: в этом заключается ее действительное назначение. Всюду и всегда счастливейшим временем для нации было то, когда дворянство и городское сословие, соединившись, становились опорой национального величия; всюду печальнейшей эпохой была та, когда они вели между собой борьбу не на жизнь, а на смерть. С давних пор военная служба является основанием к образованию аристократического сословия, и много ли времени пройдет еще до тех пор, когда физика, механика и химия заменят всякое личное мужество – и уничтожат, быть может, самую войну? Короче сказать, мы показали, что без национального преуспевания в земледелии, промышленности и торговле, без искреннего сочувствия их интересам, для немецкой аристократии нет спасения.
Считаем нужным предпослать еще несколько замечаний для верного понимания двух слов, которые встречаются в некоторых местах этой книги, а именно слов свобода и национальное единство.
Ни один благоразумный человек не будет отстаивать для Германии иной свободы и иной формы правления, кроме той, которая династиям и дворянству гарантирует не только высшую степень благосостояния, но, что несравненно больше, прочность. На наш взгляд иная, чем конституционно-монархическая форма правления принесла бы Германии не менее бедствий, чем монархическая – Соединенным Штатам Северной Америки, или конституционная – России. На наш взгляд та форма правления должна быть признана наилучшей, которая больше всего соответствует гению и состоянию нации, и в особенности той степени культуры, на которой она стоит. Но если для нас представляется пагубным и безумным всякое стремление подкопать монархическое начало и существование дворянства, то еще более опасным кажутся нам ненависть, недоверие и зависть к развитию свободного промышленного и богатого городского сословия и к господству закона, так как в них заключается главная гарантия благосостояния династии и дворянства. Не желать в стране развития по законному пути такого городского сословия, значит поставить нацию в необходимость выбирать между чужеземным игом или внутренними волнениями. Таким образом, не менее грустно слышать, что зло, которым в наше время сопровождается промышленность, считают достаточным мотивом для устранения самой промышленности. Есть гораздо большие бедствия, чем пролетариат: пустое казначейство – национальное бессилие – национальное рабство – национальная смерть.
Ни один честный и разумный человек не пожелает в Германии другого национального единства, как то, которое каждому отдельному государству и племени гарантирует самостоятельность, свободное движение и деятельность в своем собственном кругу и только в отношении национальных интересов и национальных целей подчиняет его общей воле, – единство, которое далеко от подавления или уничтожения их, может обеспечить каждой из них в отдельности и всем вместе существование и прочность, – единство, которое зиждется на исконном гении сыновей Тевта – на гении, остающемся в этом отношении одним и тем же и при республиканской форме правления (Швейцария, Северная Америка), и при монархической.
Не всем еще понятно, куда ведет раздробленная национальность, которая относится к национальности нераздробленной так же, как куски разбитой вазы по отношению к целому. Еще не прошло время жизни человека до старости с тех пор, когда все немецкие побережья носили названия французских департаментов, с тех пор, когда священная рука Германии давала злосчастной конфедерации вассалов имя чужеземного завоевателя, с тех пор, как сыны Германии на палящих песках юга и на снежных равнинах севера проливали свою кровь для славы и завоевательных стремлений чужеземца. Только национальное единство, а не другое какое-либо, думаем мы, может предохранить и нас, и нашу промышленность, и наши династии, и наше дворянство от возобновления подобной эпохи.
Но вы, так протестующие против возвращения галльского владычества, находит ли терпимым и доблестным, чтобы ваши реки и гавани, ваши берега и моря продолжали находиться под британским влиянием?
Ни в одной части политической экономии не господствует такого разногласия между теоретиками и практиками, как относительно международной торговли и торговой политики. Вместе с тем в области этой науки не существует другого вопроса, который бы имел столь важное значение как по отношению к благосостоянию и цивилизации страны, так и по отношению к ее самостоятельности, могуществу и устойчивости. Бедные, слабые и дикие страны сделались державами, преисполненными богатства и могущества, главным образом вследствие их мудрой торговой политики, другие, наоборот, вследствие противоположной причины, с высоты своего национального величия опустились на степень незначительности; можно указать даже на такие примеры, когда нации теряли свою самостоятельность и даже переставали политически существовать главным образом потому, что их торговая система не способствовала развитию и укреплению их национальности.