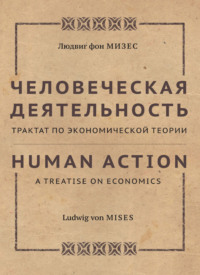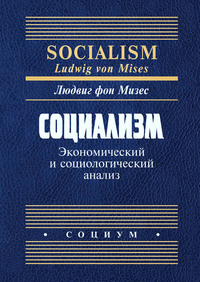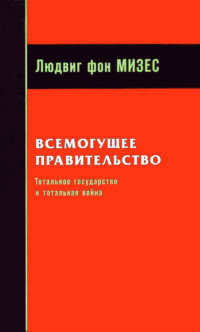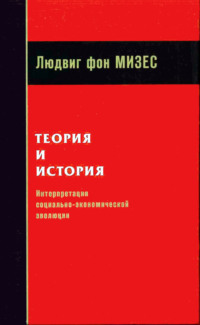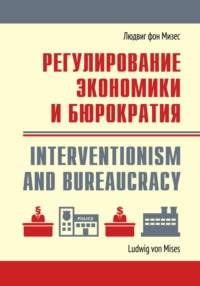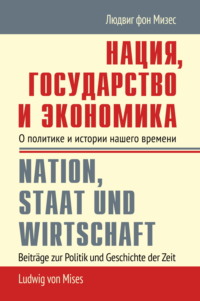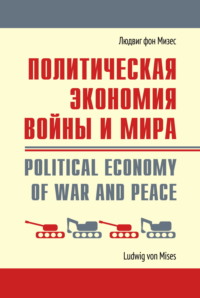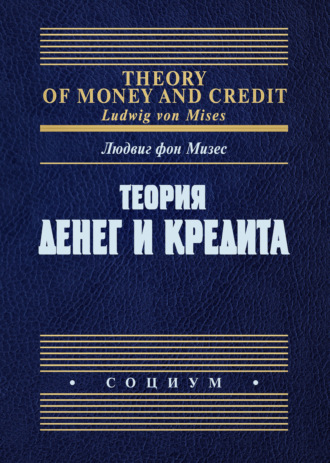
Полная версия
Теория денег и кредита
Это позволяет опровергнуть первый аргумент, на основании которого транспортировку отказываются считать производственным процессом.
Второе возражение проистекает из недостаточно глубокого понимания природы экономического блага. Перечисляя различные его естественные свойства, часто упускают из виду, что положение, занимаемое вещью в пространстве, имеет важные последствия для ее способности удовлетворять человеческие потребности. Вещи, являющиеся полностью идентичными в технологическом отношении, должны рассматриваться как представители различных видов благ, если они не находятся в одном и том же месте и не являются одинаково готовыми к потреблению или производству. До сих пор положение блага в пространстве понимается только как фактор, определяющий, имеет это благо экономическую или неэкономическую природу. Едва ли можно игнорировать тот факт, что питье воды в пустыне и питье воды в горной местности с многочисленными источниками имеют совершенно разное значение для удовлетворения человеческой потребности, несмотря на химическую и физическую идентичность воды и ее одинаковую природную способность утолять жажду. Водой, которая может быстро утолить жажду путешественника в пустыне, является только та вода, которая немедленно доступна ему, готовая к употреблению.
Однако применительно к самой группе экономических благ фактор местоположения принимается во внимание только по отношению к отдельным видам благ, а именно таких, положение которых зафиксировано – человеком или природой. И даже среди этих последних внимание экономиста-теоретика редко обращается к чему-то, отличному от наиболее тривиального случая, земли. Если же речь идет о движимых предметах, фактором местоположения обычно пренебрегают.
Трактовка перемещения в пространстве как элемента производства соответствует практике и технологии торговли. С помощью микроскопа невозможно найти никаких различий между двумя партиями свекловичного сахара, одна из которых лежит на складе в Праге, а другая в Лондоне. Но в контексте экономической теории эти две партии лучше считать благами разных видов. Строго говоря, благами первого порядка можно считать только те блага, которые уже находятся там, где будут потреблены. Все остальные экономические блага, даже если они в технологическом отношении подготовлены к потреблению, должны считаться благами более высоких порядков, которые должны быть преобразованы в блага первого порядка только путем комбинирования с дополняющим их благом – «средствами транспорта». Принимая во внимание все сказанное выше, средства транспорта, очевидно, должны считаться производственными благами. «Производство, – пишет Визер, – есть использование наиболее выигрышных из всех отдаленных условий благосостояния»[83]. Здесь ничто не мешает нам понимать слово «отдаленный» в его буквальном значении, а не только фигурально.
Итак, перемещение в пространстве есть род производства. Тем самым средства транспорта, если они не используются в потребительских целях, как, например, прогулочные яхты и т. п., должны быть включены в группу производственных благ. Но верно ли это также для денег? Аналогичны ли услуги, доставляемые деньгами, услугам средств транспорта? Ни в малейшей степени. Производство вполне может вестись без денег. Деньги не нужны ни в изолированном домашнем хозяйстве, ни в социалистическом сообществе. И мы нигде не сможем обнаружить такого блага первого порядка, о котором можно сказать, что для процесса его производства требуются деньги.
Верно, что большинство экономистов-теоретиков считают деньги производственными благами. Тем не менее ссылка на авторитет не работает, – доказательство правильности теории связано с мышлением, а не с ручательством. При всем уважении к старшим необходимо указать, что они не обосновали свою позицию по этому вопросу должным образом. В особенности примечателен пример Бём-Баверка. Как было сказано выше, Книс рекомендовал заменить общепринятую двухчастную классификацию экономических благ, с ее делением экономических благ на потребительские и производственные, трехчастной, в которой выделяются потребительские блага, средства производства и средства обмена. В общем и целом Бём-Баверк относится к Кнису с большим почтением и там, где он чувствует необходимость критиковать его, разбирает его аргументацию особенно тщательно. Но в данном случае он просто не обращает на нее внимания. Он решительно включает деньги в состав вводимого им понятия общественного капитала и походя определяет их как продукт, предназначенный для того, чтобы способствовать производству. Он бегло упоминает о возражении, согласно которому деньги представляют собой инструмент обмена, а не производства. Но вместо того, чтобы ответить не него, он начинает пространно критиковать доктрины, в соответствии с которыми запасы товаров, сосредоточенные у производителей и посредников, представляют собой блага, готовые к потреблению, а не промежуточную продукцию.
Аргументы Бём-Баверка определенно доказывают, что производство не завершено, пока товары не доставлены в то место, где на них есть спрос, и что неверно называть блага потребительскими, пока не завершен процесс финальной доставки транспортом. Но это не имеет отношения к обсуждаемому нами вопросу, – цепочка рассуждений Бём-Баверка ведет лишь к упомянутой полемике. Доказав, что лошадь и повозка, с помощью которых крестьянин привозит к себе домой зерно и дрова, должны считаться средствами производства и капиталом, Бём-Баверк добавляет: «По логике вещей объекты и механизмы обширнейшего народнохозяйственного комплекса по „доставке домой“, т. е. сами изделия, подлежащие доставке, дороги, железные дороги и суда, а также коммерческое приспособление деньги, должны включаться в понятие капитала»[84].
Здесь Бём-Баверк осуществляет то же перескакивание, которое допустил Рошер. Он игнорирует отличие транспортного перемещения, состоящего в изменении полезности вещей, от обмена, который вообще представляет собой отдельную экономическую категорию. Неправомерно уподоблять ту роль, которую играют в процессе производства деньги, той роли, которую выполняют суда и железные дороги. Деньги очевидно не относятся к «коммерческим приспособлениям», каковыми являются бухгалтерские книги, таблицы обменных курсов, фондовая биржа или кредитная система.
В свою очередь, аргументы Бём-Баверка не остались без ответа. Якоби возразил, что хотя Бём-Баверк и считает деньги и товарные запасы у производителей и посредников общественным капиталом, тем не менее он же разделяет взгляды, согласно которым общественный капитал является категорией чистой экономической теории, не зависящей от возможных юридических определений, тогда как деньги и «товарный» аспект потребительских благ присущи только «коммерческому» типу экономической организации[85].
Несостоятельность этой критики, в той ее части, которая касается возражений против включения товаров в состав производственных благ, продемонстрирована тем, что было сказано выше. Нет сомнений в том, что в данном случае прав Бём-Баверк, а не его критик. Но это не так в том, что касается второго пункта, вопроса о включении в состав этих благ денег. Надо признать, что определение капитала, которое дает Якоби, также не свободно от недостатков, и отказ Бём-Баверка признать его совершенно обоснован[86]. Но сейчас нас интересует не эта проблема. Единственное место, вызывающее здесь нашу критику, касается понятия благ. Бём-Баверк и в этом вопросе выражает несогласие с Якоби. В третьем издании второго тома своего шедевра «Капитал и процент» он указывает, что даже сложная социалистическая экономическая система вряд ли сможет обойтись без единых ордеров или единообразных сертификатов, «подобных деньгам», выпущенных против продуктов, ожидающих распределения[87]. Это замечание, имеющее частный характер, относится к обсуждаемой проблеме лишь опосредованно. Тем не менее было бы очень желательно исследовать приведенное выше мнение на предмет, не содержится ли в нем чего-то такого, что может быть полезным и для наших целей.
Любой тип экономической организации нуждается не только в системе производства, но и в системе распределения произведенного. {Последняя была бы излишней только в экономике Робинзона, – ее наличие является непременным условием существования любого общественного хозяйства. Такой институт имеется и в нашем общественном строе, это – свободный обмен. В обществах, организованных по-другому, подобные институты, реализующие процессы распределения, выглядели бы иначе, но полное их отсутствие невозможно ни в какой мыслимой общественной формации.} Вряд ли можно сомневаться в том, что распределение благ между индивидуальными потребителями представляет собой элемент производства, и что, следовательно, в состав средств производства нужно включать не только физические торговые объекты, такие как фондовые биржи, бухгалтерские книги, документы и т. п., но также все, что служит поддержанию правовой системы, которая обеспечивает юридические гарантии коммерции. Здесь имеются в виду заборы и загородки, стены, замки, сейфы, изгороди, оборудование судебных помещений и вообще все то, чем оснащены государственные органы, уполномоченные защищать собственность. В социалистическом обществе эта категория объектов может включать в себя среди прочего и «единообразные сертификаты», упомянутые Бём-Баверком. Об этих единообразных сертификатах, однако, нельзя сказать, что они «подобны деньгам». Так как деньги не являются сертификатами, то про эти сертификаты не будут говорить, что они подобны деньгам. Деньги всегда представляют собой экономическое благо. Называть требование, которым, в сущности, является сертификат, подобным деньгам, означает впадать в старинное заблуждение отождествления прав и деловых связей с благами. Для обоснования этого мы можем привлечь позицию самого Бём-Баверка[88].
Что не позволяет нам причислить деньги к этим «благам, обеспечивающим процесс распределения», и тем самым включить их в состав производственных благ? Ответ на этот вопрос (и одновременно на вопрос о включении денег в состав предметов потребления) следует из нижеприведенных соображений. Результатом уменьшения потребительских или производственных благ является утрата удовлетворенности, – человечество становится беднее. Результатом прироста количества таких благ является улучшение экономического положения людей, – прирост благ делает человечество богаче. Но этого нельзя сказать об уменьшении и об увеличении количества денег. Изменения доступных количеств производственных и потребительских благ, так же как и изменения количества денег, влекут за собой изменения ценностей. Однако в то время как изменения ценности производственных и потребительских благ не смягчают потери или уменьшения прироста удовлетворенности, проистекающих от изменения их (благ) количеств, то изменения ценности денег так изменяют спрос на них, что, несмотря на увеличение или уменьшение их [общего] количества, экономическое положение человечества остается неизменным. Увеличение количества денег может увеличить благосостояние членов общества не более, чем уменьшение этого количества может его уменьшить. В этом смысле о тех благах, которые используются как деньги, можно и вправду сказать словами Адама Смита – «мертвый капитал, который… не производит ничего»[89].
Мы показали, что при наличии определенных условий косвенный обмен есть феномен, с необходимостью присущий рынку. Положение вещей, при котором люди хотят иметь и приобретают блага посредством обмена не для своих собственных нужд, а только для того, чтобы располагать ими при последующих обменных сделках, всегда будет характерно для рыночных взаимодействий, потому что условия, делающие такое положение вещей неизбежным, характерны для подавляющего большинства обменных транзакций. Далее, развитие экономики косвенного обмена ведет к использованию общепризнанного средства обмена, к появлению и совершенствованию такого института, как деньги. Таким образом, деньги неотделимы от нашего экономического строя. Но, будучи экономическим благом, они не являются физическим элементом аппарата общественного распределения в том смысле, в каком им являются бухгалтерские книги, тюрьмы или пожарное оборудование. Никакая часть совокупного итога процесса производства физически не зависит от участия денег, хотя их использование является одной из основ, на которых базируется наш экономический строй.
Ценность производственных благ определяется тем, что производится с их помощью. Не так обстоит дело в случае денег, – ведь увеличение благосостояния членов общества никак не зависит от доступности дополнительных количеств денег. Законы, которыми определяется ценность денег, отличны от законов, определяющих ценность производственных благ, и законов, определяющих ценность предметов потребления. То, что есть общего и у тех, и у других, сводится к фундаментальному закону экономической теории – закону ценности. Поэтому предложение Книса о разделении благ на три категории – средства производства, предметы потребления и средства обмена – является совершенно обоснованным. Ведь, помимо всего прочего, главной целью при разработке экономико-теоретической терминологии, является обеспечение процесса исследования в рамках теории ценности.
2. Деньги как элемент частного капиталаИнтерес к проблеме соотношения между деньгами и производственными благами лежит не просто в сфере терминологии. В данном случае интерес представляет не конечный ответ, а то, как аргументация, используемая при его обосновании, одновременно проливает свет на особые свойства денег, отличающие их от других экономических благ. Эти специфические характеристики общепризнанного средства обмена будут исследованы более внимательно, когда мы начнем рассматривать законы, определяющие ценность денег и их разновидностей.
Однако и итог наших рассуждений, а именно утверждение, согласно которому деньги не являются производственным благом, не является совершенно незначимым. Он поможет нам ответить на вопрос, являются деньги капиталом или нет. Этот вопрос, в свою очередь, сам по себе не представляет решения конечной проблемы, но позволяет прояснить вопрос о соотношении равновесной ставки процента и денежной ставки процента, обсуждаемый в третьей части настоящей книги. Если один вывод подтвердит другой, то с большой степенью обоснованности можно будет утверждать, что наша аргументация не привела нас к ошибке.
Первая трудность на пути любого исследования соотношения между деньгами и капиталом состоит в наличии многочисленных определений понятия капитала. Разногласия экономистов-теоретиков на этот счет более значительны, чем разногласия по любому другому вопросу. Ни одно из многочисленных определений, предлагавшихся до сих пор, не является общепризнанным – в действительности сегодняшние дискуссии по теории капитала ведутся даже более жестко, чем когда-либо ранее. Из огромного числа конфликтующих концепций мы выберем в качестве той, которой будем руководствоваться при изучении проблемы соотношения денег и капитала, концепцию Бём-Баверка. Для обоснования этого выбора достаточно указать, что теория Бём-Баверка служит наилучшей основой любой серьезной попытки исследовать проблему процента, даже если такое исследование в конце концов приведет (за что труд Бём-Баверка не несет никакой ответственности) к выводам, значительно отличающимся от тех, к которым пришел он сам. Далее, этот выбор подкрепляется всеми весомыми аргументами, которыми сам Бём-Баверк обосновывал свою концепцию и с помощью которых он защищал ее от критиков. Кроме того, возможно, решающей причиной является тот факт, что ни одна другая теория капитала не была доведена до такой степени ясности[90]. Последний момент особенно важен. Целью данного обсуждения не является получение некоего решающего вывода касательно терминологии или критика обсуждаемых концепций. Мы стремимся прояснить здесь два момента, важных в контексте соотношения равновесной и денежной ставок процента. Поэтому корректность классификаций явлений для нас здесь имеет меньшее значение. Более важно не упустить неких неясных идей относительно их природы. Следует включать деньги в состав капитала или нет, – на это могут существовать разные точки зрения. В значительной мере авторы концепций занимают ту или иную позицию по соображениям целесообразности или удобства, что легко порождает разногласия. Однако экономические функции денег – это такой вопрос, по которому достижение полного единства вполне возможно.
Из двух понятий капитала, которые различает Бём-Баверк, следуя традиционной экономико-теоретической терминологии, понятие частного, или приобретательского (acquisitive), капитала и старше, и шире. Именно оно является первоначальной и исходной концепцией, от которой позже отделилось более узкое понятие общественного, или производительного, капитала. Поэтому логично начать исследование с проблемы взаимоотношения частного капитала и денег.
Бём-Баверк определяет частный капитал как совокупность продуктов, служащих для приобретения благ[91]. Никто никогда не ставил под сомнение включение денег в эту совокупность. Да и сама разработка научной концепции капитала началась с представления о сумме денег, приносящих процент. Шаг за шагом это представление расширялось, пока не стало той концепцией, которая используется в сегодняшних научных дискуссиях, в целом совпадая с обыденным употреблением понятия «капитал».
В то же время постепенная эволюция понятия капитала сопровождалась ростом понимания функционирования денег как капитала. На заре истории обыденное сознание объясняло процент, который приносят деньги, отданные в качестве ссуды, тем, что эти деньги «работают». Но такое объяснение не могло долго оставаться удовлетворительным. Наука выдвинула против него тезис, согласно которому деньги сами по себе – бесплодны. Уже в античности точка зрения, которая позже воплотилась в чеканную римскую формулировку pecunia pecuniam parere non potest[92], была общепризнанной. На ней в течение сотен или даже тысяч лет основывались все дискуссии о природе процента. Аристотель в своей «Политике» приводит соответствующее утверждение не как некую новую доктрину, а как всеми признаваемое общее место[93]. Несмотря на тривиальный характер этого утверждения, тезис о бесплодности денег был весьма важным и необходимым шагом в процессе понимания природы капитала и процента. Если сумма денег, отданная в ссуду, приносит «плоды» и если этот феномен невозможно объяснить физической производительностью денег, необходимо искать ему другое объяснение.
Следующим шагом на этом пути было наблюдение, что после того, как денежная ссуда получена, заемщик, как правило, обменивает деньги на другие экономические блага. Значит, те владельцы денег, которые хотят получить прибыль от их использования, не отдавая их в ссуду, делают то же самое. Это наблюдение стало отправным пунктом для вышеупомянутого расширения определения понятия капитала и для перехода от денежной ставки процента к проблеме «естественной» ставки процента.
До того как был сделан следующий шаг, прошли столетия. Поначалу развитие теории капитала совершенно прекратилось. Строго говоря, дальнейший прогресс был никому не нужен. Того, что было известно и понято, было совершенно достаточно, – ведь задачей науки тогда считалось не исследование реальности, а оправдание идеалов. Между тем общественное мнение порицало взимание процента. И даже позже, когда взимание процента было признано в греческом и римском праве, он не уважался, и классические авторы стремились перещеголять друг друга в осуждении этого занятия. Когда [христианская] церковь запретила взимать процент, обосновывая этот запрет цитатами из Библии, это пресекло все попытки самостоятельных размышлений на данную тему. Каждый теоретик, интересовавшийся данным предметом, был обречен на то, чтобы трактовать взимание процента как вредное и неестественное проявление жадности. Соответственно, авторы видели свою главную задачу в том, чтобы найти новые возражения против этой практики. Они стремились не выяснить, как возникает процент, а поддержать тезис о необходимости его запрета. В этих обстоятельствах авторам было легко некритически перенимать друг у друга доктрину бесплодности денег, которая служила убедительным аргументом против уплаты процента. Таким образом, – не в силу своего содержания, а из-за выводов, которые она позволяла обосновать, – доктрина бесплодности денег стала препятствием развития теории процента. Она перестала быть таким препятствием и стала помогать развитию новой теории капитала только после того, как была отброшена старая теория процента, основанная на догмах канонического права. Первым следствием нового положения вещей стала необходимость расширить понятие капитала и рассмотреть проблему в новом контексте. И в обыденной речи, и в построениях ученых капитал больше не сводится к «сумме денег, выданных в качестве ссуды», превратившись в «накопленный запас благ»[94].
Доктрина бесплодности денег важна для нас еще в одном отношении. Она проливает свет на деньги как на часть тех объектов, которые образуют частный капитал. Почему мы включаем деньги в состав капитала? Почему денежные суммы, данные в долг, возвращаются с процентами? Почему возможно такое использование денег, которое хотя и не связано со ссудными операциями, но тем не менее обеспечивает доходность? Ответы на эти вопросы не оставляют сомнений. Деньги являются инструментом приобретения, только когда они обмениваются на другое экономическое благо. В этом смысле деньги можно уподобить тем потребительским благам, которые образуют часть частного капитала лишь потому, что они не потребляются самим владельцем, а используются им для приобретения других товаров или услуг посредством обмена. Деньги являются частью приобретательского капитала не в большей мере, в какой ею являются эти потребительские блага. Реальный приобретательский капитал состоит из тех благ, которые обмениваются на деньги или упомянутые потребительские блага. Сами по себе деньги лежат «праздно», – деньги, не обмениваемые на другие блага, не являются элементом капитала, в этом смысле они не приносят плодов. Деньги являются элементом частного капитала индивида, только если и до тех пор, пока они входят в состав средств, с помощью которых упомянутый индивид может получить другие капитальные блага.
3. Деньги не есть часть общественного капиталаПод общественным, или производительным, капиталом Бём-Баверк понимает совокупность продуктов, предназначенных для использования в процессе производства[95]. Если мы встанем на точку зрения, изложенную выше, согласно которой деньги не могут включаться в состав производственных благ, то они равным образом не могут включаться и в общественный капитал. Бём-Баверк, как и большинство предшествующих экономистов-теоретиков, действительно включает их в общественный капитал. Этот шаг логически следует из трактовки денег как производственного блага, причем такая трактовка служит единственным оправданием такого шага. Мы показали, что деньги не являются производственным благом, тем самым мы одновременно показали и то, насколько безосновательно это оправдание.
В любом случае, мы, пожалуй, можем допустить, что те авторы, которые включают деньги в производственные блага и на этом основании в капитальные блага, не вполне последовательны и логичны. Обычно они трактуют деньги как часть общественного капитала в том разделе своих теоретических систем, предметом которых является концепция денег и капитала, однако в этих разделах они избегают некоторых очевидных следствий из этой концепции. Наоборот, там, где логически должна быть реализована трактовка денег, согласно которой они есть часть общественного капитала, она внезапно забывается. При изложении факторов, определяющих ставку процента, эти авторы неоднократно подчеркивают, что не имеет значения, больше или меньше денег имеется в экономике, что, наоборот, имеет значение большее или меньшее количество других экономических благ. Но это утверждение, которое является совершенно верным заключением раздела экономической теории о проценте, просто невозможно сочетать с одновременным включением денег в состав производственных благ.
Глава 6
Враги денег
1. Деньги в социалистическом обществеВыше было показано, что при определенных условиях, которые по мере углубления разделения труда и дифференциации потребностей возникают все чаще, косвенный обмен становится неизбежным. Было показано, далее, что в ходе эволюции косвенного обмена постепенно отбирается небольшое число определенных благ, или даже одного блага, которые используются в качестве общего средства обмена. Если не существует никакого обмена вообще и, следовательно, если не существует обмена косвенного, то в таком обществе использование общего средства обмена, естественно, остается неизвестным. Такова была ситуация, когда преобладающей экономической единицей было изолированное домашнее хозяйство. Однажды, согласно прозрениям социалистов, она станет такой опять, – когда, в один прекрасный день, воцарится чистый социалистический строй, при котором производство и распределение станут на систематической основе регулироваться органом централизованного планирования{[96]}. Эта картина социалистического будущего никогда не описывается его пророками сколько-нибудь детально. Более того, разные пророки социализма рисуют разные картины будущего. Некоторые из них допускают в своих построениях, в определенных границах, обмен экономическими благами – товарами и услугами. Если речь идет об этих случаях, можно говорить о том, что использование денег остается возможным.