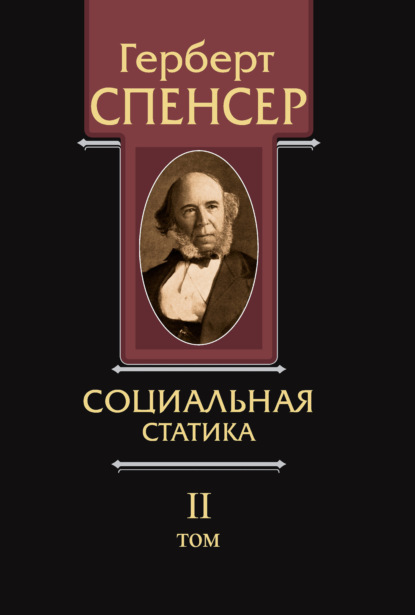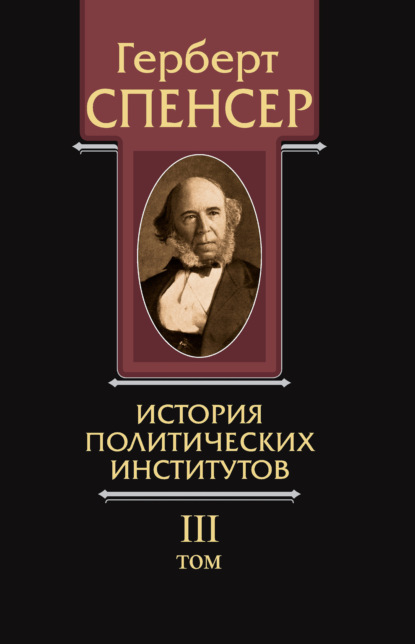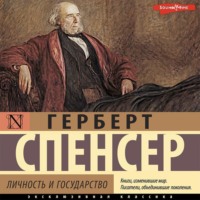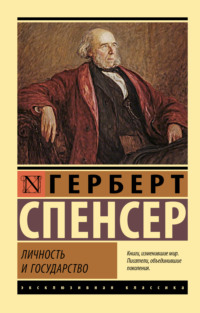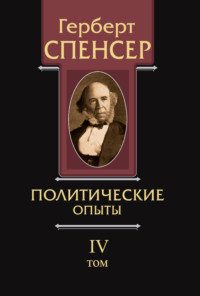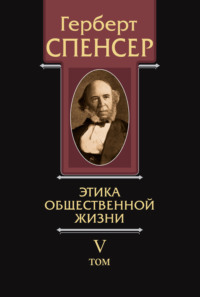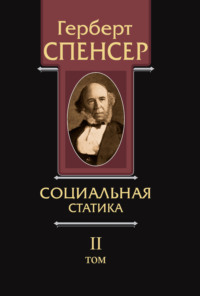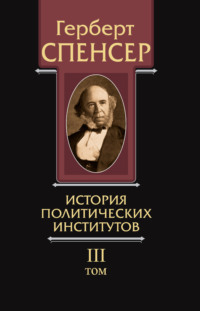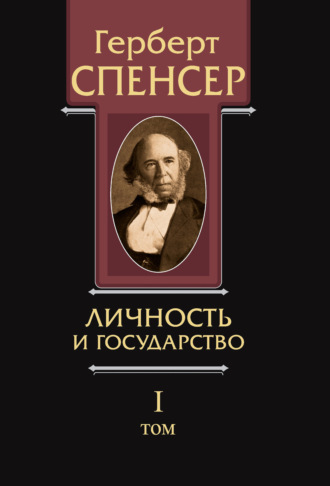
Полная версия
Политические сочинения. Том I. Личность и государство
Например, этатизм утверждает, что у гражданина нет прав, которые государство обязано уважать, а те права, что у него есть, дарованы ему государством, так что оно может ослаблять или отменять эти права по собственному усмотрению. Эта доктрина – фундамент, без которого не могли бы существовать все бесчисленные номинальные разновидности и формы этатизма, известные в Европе и в Америке под различными названиями: социализм, коммунизм, нацизм, фашизм и т. п. Индивидуализм, проповедовавшийся ранними либералами, отстаивал обратное: он утверждал, что у гражданина есть права, нарушать которые не имеет права ни государство, ни любое другое учреждение. Это основополагающая доктрина; без опоры на нее любая формулировка индивидуализма превращается в макулатуру. Более того, ранний либерализм принимал ее не только как фундаментальную, но и как аксиоматичную, самоочевидную. Можно напомнить, к примеру, что в основу нашей великой хартии, Декларации независимости, положена самоочевидная истина этой доктрины: утверждение о том, что уже по факту рождения человек наделен определенными «неотчуждаемыми» правами и именно «для обеспечения этих прав» люди учреждают правительство. В политической литературе не существует более явно сформулированного отрицания этатистской философии, чем в этом исходном постулате Декларации.
Теперь спросим: в каком направлении дрейфует новейший американский либерализм? К расширению какого типа сотрудничества он стремится: добровольного или принудительного? Направлены ли его усилия на отмену существующих мер государственного принуждения или на придумывание и введение новых? Имеет ли он тенденцию неуклонно расширять или сужать границы, в пределах которых индивид может поступать, как ему заблагорассудится? Предполагает ли он постоянное увеличение или постоянно сокращение поводов государственного вмешательства в дела гражданина? Словом, что́ он последовательно демонстрирует: философию индивидуализма или философию этатизма?
Полагаю, ответ очевиден, причем подтверждающие его факты столь общеизвестны, что умножение примеров было бы пустой тратой времени. Взять хотя бы один из наиболее заметных: либералы сделали все возможное, чтобы посредством поправки о подоходном налоге протащить в Конституцию принцип абсолютизма – и добились успеха. Теперь конгресс имеет право не только отнять последний грош у гражданина, но и вводить конфискационное и дискриминационное налогообложение, налоги «для уравнивания богатства» или для любой иной цели. Трудно придумать меру, которая бы шире открывала дорогу для чисто этатистского режима, дав в руки государства столь чудовищный механизм, по сути карт-бланш государственным чиновникам против гражданина. Повторим ее раз: нынешняя администрация составлена из самозваных либералов, и ее курс состоит в непрерывном триумфальном усилении этатизма. В одном из абзацев написанного в 1884 г. предисловия к этим очеркам Спенсер суммирует политическую историю США за последние шесть лет: «Быстро множащиеся диктаторские меры непрерывно стремились сузить свободы индивидов и делали это двояким путем. С каждым годом вводится все больше правил, ограничивающих гражданина в направлениях, где его деятельность прежде не была стеснена, и принуждающих его к действиям, которые он прежде по своему разумению мог предпринимать или нет, и в то же время более тяжкие общественные обременения, главным образом местные, еще более ограничивали его свободу, уменьшая ту долю его заработков, которые он может тратить как угодно ему самому, и увеличивая долю, изымаемую у него, чтобы быть потраченной как то угодно представителям власти» (с. 2).
Вот как близко с 1932 по 1939 г. курс американского этатизма следовал курсу этатизма британского с 1860 по 1884 г. Было бы совершенно уместно (и никоим образом не бесцеремонно) спросить мистера Рузвельта и его присных, учитывая их заверения в собственном либерализме, верят ли они в то, что гражданин имеет какие-либо права, которые государство обязано уважать. Готовы ли они искренне, т. е. не с предвыборными целями, подписаться под основополагающей доктриной Декларации независимости? Если да, то это вызвало бы неподдельное удивление. И все-таки подобное заявление в определенной степени способствовало бы прояснению разницы (если она существует) между «тоталитарным» этатизмом некоторых стран Европы и «демократическим» этатизмом Великобритании, Франции и США. Наличие этой разницы считается само собой разумеющимся, однако сторонники данной точки зрения не дают себе труда объясниь, в чем именно она состоит, а для неангажированного наблюдателя ее существование, мягко говоря, неочевидно.
Спенсер завершает главу «Новый торизм» предсказанием, которое сегодня представляет особый интерес для американских читателей, с учетом того, что оно было написано 55 лет назад в Англии и в первую очередь для английских читателей. Он пишет: «Законы, принятые либералами, привели к такому ужесточению принудительных мер и ограничений, применяемых к гражданам, что среди консерваторов, которые страдают от их агрессивности, усиливается тенденция к сопротивению. Доказательством может служить тот факт, что „Лига защиты свободы и собственности“, в большинстве своем состоящая из консерваторов, выбрала своим девизом фразу „Индивидуализм против социализма“. Поэтому если положение вещей не изменится, вскоре может на самом деле случиться так, что тори будут защитниками свобод, которые либералы попрали в погоне за тем, что они считают народным благоденствием».
В США это пророчество уже сбылось.
* * *Очерки, следующие за «Новым торизмом», по-видимому, не требуют специального предисловия или объяснений. В основном они посвящены рассмотрению причин, по которым усиление этатизма ведет к быстрому социально-экономическому упадку, и того, почему этот процесс, если его не остановить, вызовет полный распад общества. Все что нужно делать американскому читателю по ходу чтения этих очерков, это проводить параллели с развитием этатизма в США и на каждой странице отмечать силу и точность Спенсерова прогноза, подтвержденного непрерывной последовательностью событий, произошедших со времени написания его эссе. Читатель наглядно увидит, куда эта дорожка завела Англию: социальная власть оказалась полностью изъята и превращена во власть государства настолько, что ныне ее не хватает для оплаты счетов государства, а гражданин находится в положении абсолютного и униженного раба государства. Читатель также поймет, о чем он уже, несомненно, подозревает: в ситуации, сложившейся в Англии, по-видимому, уже поздно что-либо предпринимать. Ничего не даст даже успешная революция (если таковая вообще возможна) против военной тирании, которая собственно и является крайним изводом этатизма. После революции народ будет столь же глубоко пропитан этатистскими идеями, как и до нее, и, следовательно, революция будет не революцией, а coup d’Etat[11], от которого гражданин не выиграет ничего, кроме простой смены угнетателей. За последние 25 лет мы были свидетелями множества революций, и именно такой вывод следует из их истории. Их итоги – всего лишь впечатляющее подтверждение той великой истины, что правильные действия возможны только тогда,
Личность и государство
Предисловие
В номере «Westminster Review» за апрель 1860 г. была опубликована статья «Парламентская реформа: опасности и меры предосторожности»[12]. В той статье я рискнул предсказать некоторые результаты предлагавшихся в то время политических изменений.
Вкратце ее тезис заключается в том, что несмотря на все принятые предосторожности, за расширением свободы по форме последует сокращение свободы по сути. С тех пор не произошло ничего, что заставило бы меня изменить высказанное мнение. С того времени законодательство эволюционировало в предсказанном направлении. Быстро множащиеся диктаторские меры постоянно сужали свободы индивидов, делая это двояким путем. С каждым годом вводилось все больше правил, ограничивающих гражданина там, где его деятельность прежде не была стеснена, и принуждающих его к действиям, которые он прежде мог предпринимать или не предпринимать по собственному усмотрению, и одновременно более тяжкие общественные обременения, главным образом местные, еще более ограничивали его свободу, уменьшая долю его заработков, которую он может тратить по собственному желанию, и увеличивая долю, изымаемую у него, чтобы быть потраченной по желанию представителей власти.
Причины описанных выше последствий, действовавшие в то время и продолжающие действовать сегодня, судя по всему, лишь усиливаются; я обнаружил, что выводы, сделанные в отношении этих причин и следствий оказались верными, что подвигло меня сделать аналогичные выводы относительно будущего и как можно сильнее акцентировать их, чтобы хоть таким способом привлечь внимание к надвигающимся несчастьям.
Именно в этих целях написаны четыре нижеследующие статьи, первоначально опубликованные в «Contemporary Review» в феврале, апреле, мае, июне и июле текушего года. Чтобы ответить на критику и устранить некоторые возможные возражения, для настоящего издания написано послесловие.
Бейсуотер, июль 1884 г.I
Новый торизм
Большинство тех, которые считаются теперь либералами, – это тори нового типа. Вот парадокс, который я хочу оправдать. Чтобы доказать это, я должен сначала представить, чем были обе эти политические партии вначале, а затем я попрошу читателя извинить меня, если напомню ему уже знакомые факты, так как я иначе не могу хорошо объяснить, в чем состоит самая суть истинного торизма и истинного либерализма.
Если мы вернемся к эпохе, предшествовавшей возникновению этих названий, то мы увидим, что обе политические партии представляли собой два противоположных типа социальной организации: тип воинствующий и тип промышленный. Первый нашел себе выражение в государственном режиме, общем почти для всех стран в древние времена; второй – в режиме соглашения, контракта, распространившемся в наше время, главным образом, среди западных наций и в особенности в Англии и Америке. Если мы употребим слово «кооперация» не в тесном, а в более обширном смысле, в смысле соединенных усилий всех граждан при какой бы то ни было системе управления, то режимы эти можно будет определить так: один – это система насильственной кооперации, а другой – система кооперации добровольной. Типичный строй первой системы мы видим в регулярной армии, все единицы которой в разных чинах должны выполнять приказания под страхом смертной казни и получают пищу, одежду и плату по произвольному распределению; типичный строй второй системы представлен армией производителей и потребителей, которые входят между собой в соглашение и за определенную плату оказывают определенные услуги и которые, по желанию и по предварительному заявлению, могут вовсе выйти из организации, если она им не нравится. В течение социальной эволюции Англии различие этих двух, неизбежно противоположных форм кооперации выступало постепенно; но гораздо раньше того, как названия «тори» и «виги» вошли в употребление, можно было уже констатировать наличность этих двух партий и заметить до известной степени их отношение к милитаризму и к индустриализму. Известно, что в Англии, как и в других странах принудительной регламентации, характеризующей кооперацию при правительственном (государственном) режиме, сопротивление оказывалось обыкновенно населением городов, состоявшем из ремесленников и купцов, привыкших к кооперативной работе при режиме соглашения, тогда как кооперация при государственном режиме, обязанная своим происхождением и устройством постоянным войнам, удержалась в сельских местностях, где жили прежде военачальники и их подчиненные, у которых сохранялись старые идеи и традиции. Более того: этот контраст в политических тенденциях, проявившийся раньше, чем ясно определилось различие между принципами вигов и ториев, продолжал выступать и впоследствии. В эпоху Революции[13], «в то время как села и маленькие города находились в руках ториев, большие города, промышленные области и торговые порты служили крепостями для вигов». Доказывать, что, за немногими исключениями, положение это существует и поныне – излишне.
Таков был, сообразно с их происхождением, характер обеих партий. Посмотрим теперь, как этот характер проявлялся в их первых действиях. Вигизм начался сопротивлением Карлу II и его клевретам, старавшимся восстановить неограниченную монархическую власть. Виги «рассматривали монархию как гражданское учреждение, установленное нацией для блага всех ее членов», тогда как для ториев «монарх был посланником Неба». Одна из этих доктрин заключала в себе убеждение, что подчинение королю было условно, другая, что оно абсолютно. Говоря о виге и тории, какими их представляли себе в конце XVII в., т. е. лет за пятьдесят до выхода в свет «Рассуждения о партиях», Болинброк говорит: «Наследственное, священное, неотъемлемое право, преемственность его в прямом колене, пассивное повиновение, непротивление, рабство и иногда также папизм – вот понятия, которые во многих умах соединялись с представлением о тории и которые считались несовместимыми с представлением о виге».
Если мы сравним эти описания, то увидим, что в одной партии преобладало стремление противодействовать принудительной власти короля над подданными и уменьшить ее, а в другой – желание удержать или даже увеличить эту принудительную власть. Это различие в стремлениях, различие, превосходящее по своей важности все политические различия, обнаруживается тотчас же в действиях обеих партий. Принципы вигов выразились в habeas corpus акте[14] и в мероприятии, ставившем судей в независимое от короны положение, в отвержении билля, требовавшего, чтобы законодатели и административные служащие связывали себя присягой ни в каком случае не сопротивляться королю оружием; эти же принципы впоследствии выразились в билле, имевшем целью оградить подданных от враждебных действий монархической власти. Все эти акты имели по существу одинаковое значение: они ослабляли принцип обязательной кооперации в общественной жизни и укрепляли принцип добровольной кооперации. Замечание Грина по поводу периода, в течение которого виги находились у власти, после смерти Анны, показывает, что политика этой партии имела то же общее направление, как и в предшествующую эпоху: «Прежде чем протекло пятидесятилетие их власти, англичане уже забыли, что возможно было преследовать людей за религиозные убеждения, отменить свободу печати, вмешиваться в применение правосудия или управлять без парламента».
А теперь, оставив в стороне период войны в конце XVIII и начале XIX в.[15], в течение которого личная свобода потеряла бо́льшую долю завоеванной области, и когда ретроградное движение к социальному типу милитаризма проявилось в различного рода принудительных мерах, начиная с тех, которые насильственно овладевали людьми и собственностью граждан и пытались обуздать печать, – припомним общий характер всех изменений, произведенных вигами или либералами, когда восстановление мира дало возможность воскресить промышленный режим со свойственным ему строем[16]. Под возрастающим влиянием вигов законы, запрещавшие ассоциации рабочих, были отменены так же, как и законы, ограничивавшие свободу их перехода с места на место. Упомянем также и закон, по которому диссиденты могли веровать, во что хотели, не подвергаясь гражданским наказаниям, и закон, позволявший католикам исповедывать свою веру, не теряя известной доли своей свободы. Область свободы расширилась благодаря актам, запрещавшим покупать негров и держать их в рабстве. Монополия Ост-Индской компании была уничтожена, а торговля с Востоком объявлена свободной для всех. Благодаря Биллю о реформе и Биллю о муниципальной реформе[17] число граждан, не имеющих представителей, было уменьшено, так что, как с общей, так и с местной точки зрения, масса менее страдала от принуждения со стороны немногих. Диссентеры, отколовшиеся от англиканской церкви, были избавлены от подчинения церковной форме брака, получив возможность жениться по чисто гражданскому церемониалу. Позднее явились уменьшение и отмена ограничений при покупке иностранных товаров и при пользовании иностранными судами и моряками, а еще – позднее отмена стеснительных для прессы постановлений, изданных прежде всего для того, чтобы помешать распространению мнений. Нет никакого сомнения, что все эти изменения, были ли они сделаны либералами или нет, совершены были сообразно с провозглашаемыми ими принципами.
Но зачем перечислять давно известные всем факты? Единственно затем, что, как мы уже сказали, необходимо напомнить читателю, чем был либерализм в былые времена, дабы он видел, насколько он разнится от так называемого либерализма нашего времени. Мы считали бы излишним перечислять одну за другой все эти различные мероприятия для того, чтобы показать их общий характер, если бы они в наше время уже не были забыты. Мы забыли, что так или иначе все эти истинно либеральные перемены уменьшили обязательную кооперацию в социальной жизни и увеличили добровольную. Мы забыли, что в том или другом смысле они уменьшили область правительственной власти и увеличили поле действия, где каждый гражданин может свободно действовать. Мы потеряли из виду ту истину, что либерализм обыкновенно защищал свободу личности против принудительного действия государства.
И теперь мы должны спросить себя: каким образом либералы потеряли из вида эту истину? Как могло случиться, что либеральная партия, приобретая все большую и большую долю власти, делалась все более и более принудительной в своих законодательных мерах? Как случилось, что, опираясь на свое собственное большинство, или же косвенно, путем содействия, оказываемого ею в некоторых случаях большинству партии своих противников, либеральная партия в широких размерах присвоила себе право руководить действиями граждан и, следовательно, уменьшать область, в которой эти действия были свободны? Каким образом объяснить это смешение понятий, которое заставило партию в стремлении к тому, что кажется общественным благом, отбросить метод, который в былые времена помогал ей служить этому общественному благу?
Хотя на первый взгляд и кажется, будто невозможно объяснить себе эту бессознательную политическую перемену, мы найдем, однако, что это произошло вполне естественно. Принимая во внимание мысль, которая обыкновенно преобладает в политических вопросах, и настоящие условия, нельзя было и ожидать ничего другого. Чтобы доказать справедливость этого мнения, необходимо войти в некоторые предварительные объяснения.
Начиная с низших животных, до самых высших, умственные способности прогрессируют путем дифференциации, и таким же образом прогрессируют они и у человека, начиная от круглых невежд до ученых. Точно классифицировать, поместить в одну группу существенно однородные вещи, а в другие группы вещи существенно различные – вот основное условие для правильного управления действиями. Начиная с общего зрительного впечатления, предупреждающего нас о прохождении вблизи большого темного тела (точно так же, как мы с закрытыми глазами, обратясь к окну, видим тень руки перед нами и, следовательно, узнаем, что какое-то тело движется между окном и нами), мы мало-помалу достигаем такого развития зрения, которое, путем тонкой оценки соединения форм, цветов и движений дает возможность узнавать в появляющихся вдали предметах добычу или опасность и приспосабливать наш образ действий к тому, чтобы завоевать себе пищу или избегнуть смерти. Это прогрессивное понимание различий и получающиеся вследствие того более точные распределения по отделам и составляют развитие ума в главных его проявлениях и наблюдаются также и тогда, когда от восприятия простым физическим зрением мы переходим к сравнительно более сложному восприятию умственным зрением, позволяющему нам группировать более верным и более соответствующим их строению и их природе образом предметы, которые мы раньше группировали по некоторым внешним чертам сходства и по чисто внешним условиям. Неразвитое умственное зрение различает так же плохо и ошибается в своей группировке так же, как и «неразвитое» физическое зрение. Приведем в пример прежнюю классификацию растений на деревья, кустарники и травы, где самая выдающаяся их черта – величина – составляет основу различия, и группы формируются таким образом, что соединяют в себе много растений совершенно разнородных и разъединяют другие, принадлежащие к одному семейству. Или возьмем еще лучший пример: а именно народную классификацию, соединяющую под одним общим названием рыб и раковины (fish и shell fish) и причисляющую к раковинам черепокожих и моллюсков; она идет даже еще дальше, причисляя к рыбам китообразных животных. Таким образом, вследствие ли сходства в образе жизни, как обитателей вод, вследствие ли чего-либо общего во вкусе их мяса, народ соединил в один отдел и один подотдел существа менее сходные по своей природе, чем рыба и птица.
Подтверждаемая этими примерами общая истина проявляется также и в высших сферах умственного зрения относительно предметов, недоступных чувствам, каковы политические учреждения и мероприятия; ибо и в этих вопросах продукты несовершенной умственной способности или несовершенного умственного развития, или того и другого вместе, представляют собой ошибочную группировку, ведущую к ошибочным выводам. И даже в этой области шансы заблуждения гораздо более многочисленны, так как предметы, принадлежащие к интеллектуальной области, не могут быть рассматриваемы так же легко. Вы не можете ни осязать, ни видеть политическое учреждение; вы можете познать его только усилием своего творческого воображения. Точно также вы не можете уловить физическим чувством политическую меру: это также требует умственной работы, соединяющей составные части в одну идею и приводящей нас к пониманию сущности этого соединения. Значит, здесь еще более, чем в вышеупомянутых случаях, несовершенство умственного зрения проявляется в группировке явлений по внешним чертам и внешним условиям. Доказательство того, что эта причина производит ошибки в классификации учреждений, мы видим в общераспространенном мнении, что римская республика была демократической формой правления. Рассмотрите поближе идеи прежних французских революционеров и вы увидите, что они брали себе в пример политические акты и формы римлян, и можно было бы даже назвать имя того историка, который ставит в пример испорченность римских нравов, чтобы показать, к чему приводит демократическое правление. А между тем, между римскими и истинно свободными учреждениями существует не менее разницы, чем между акулой и морской свиньей, так как эти учреждения, несмотря на одинаковую внешнюю форму, представляют совершенно различный внутренний строй. Общество, в котором относительно небольшое число людей, имевших в своих руках политическую власть и пользовавшихся известной свободой, были все сплошь маленькими деспотами, которые держали не только своих рабов и подчиненных, но даже своих детей в таком же полном рабстве, как и свой скот, такое общество может считаться скорее подвластным обыкновенному деспотизму, чем собранию граждан, обладающих равными политическими правами.
Если мы перейдем теперь к нашему специальному вопросу, то мы в состоянии будем заметить то смешение понятий, в котором запутался либерализм, и выяснить источник тех ошибочных группировок политических мер, приведших к его ошибкам, – группировок, сделанных, как мы увидим ниже, сообразно с выступающими внешними признаками, а не внутренними свойствами явлений. Какова была в глазах народа и в глазах либералов, произведших реформы в былые времена, цель этих реформ? Эти реформы должны были устранить причины неудовольствия народа или лишь части народа: таков был общий их характер, запечатлевшийся в уме людей. Они должны были смягчить зло, от которого прямо или косвенно страдали целые классы населения, уменьшить причины нищеты и разрушить преграды к счастью. И так как в уме большинства людей устраненное зло равняется совершенному благу, на эти меры стали смотреть, как на положительные благодеяния, а либеральные государственные люди и либеральные избиратели стали считать благосостояние масс целью либерализма. Отсюда и произошло смешение понятий. Так как внешней выдающейся чертой всех либеральных мер древнего времени было приобретение какого-либо блага для народа (а благо это состояло главным образом в уменьшении стеснения), то и случилось так, что либералы увидели в народном благе не цель, которой следовало достигать косвенным образом, путем уменьшения стеснения, но цель, которой следует достигать непосредственно. А стараясь достигнуть ее непосредственно, они стали пользоваться методами, по существу своему противоположными тем, которые употреблялись прежде.
Теперь, когда мы увидели, каким образом произошло это изменение в политике (исключение частичное, так как недавние законы о погребениях и усилия, сделанные для уничтожения всех еще существующих религиозных неравенств, показывают, что прежняя политика еще продолжается в некоторых направлениях), рассмотрим, до чего дошло это изменение в последнее время и до чего оно дойдет еще в будущем при продолжающемся преобладании современных идей и чувств.