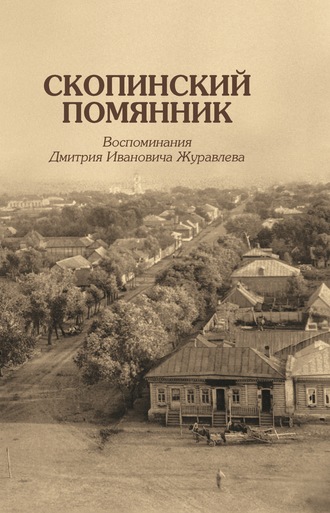
Полная версия
Скопинский помянник. Воспоминания Дмитрия Ивановича Журавлева
Воспоминания – часть сохранившегося личного архива, включающего семейные документы (самые ранние относятся к XVIII в.), переписку (с начала ХХ в.), записные книжки Журавлева 1950– 1970-х годов, газетные вырезки, выписки из книг и журналов с комментариями Дмитрия Ивановича.
Важная часть архива – фотографии: отпечатки, пленки, стеклянные пластины (1910–1950-х годов) и их полный перечень с датами в особых тетрадях. Снимок – тоже дневниковая запись своего рода.
Припоминание, наблюдение, фотография составляют, наверное, основу внутреннего «записывающего устройства», с которым мы имеем дело. Похоже, оно действовало всегда, не останавливаясь даже в самые страшные минуты, в последние часы жизни близких – смерть отца в 1956 г. и сестры в 1979 г. Журавлев фиксировал во всех подробностях.
Мысленное возвращение к прошедшему событию – родовая черта, которую Журавлев замечает в себе и отце и говорит о ней иногда иронически, понимая, что многократное возвращение способно трансформировать прошлое:
Результат таких изысканий, слишком по своему существу смыкающийся с тем, что Кони называет «мечтательной ложью», отражен в моей записи.
Отсюда, вероятно, желание опереться на документ, даже прямо включив его в текст воспоминаний, – и тем самым уберечься от «мечтательной лжи».
В воспоминаниях Дмитрия Ивановича есть не вполне обычная черта (может быть, несколько менее явная в сокращенном для публикации тексте): очень много описаний объектов материального мира. Книги, которых в скопинском доме было мало, описываются очень подробно, вплоть до картинок и обложек. При доме в Скопине был сад и пчельник: Дмитрий Иванович приводит не только схемы сада с точными измерениями, но и дает историю каждой яблони, с объяснениями, почему выбрали тот или иной сорт, историю каждого улья, тем более что ульи были по большей части самодельными, Журавлевы иногда конструировали их сами. Описывается дом и история каждой комнаты – как она меняла хозяев, что из нее исчезло в голодные 1920-е годы, какие предпринимались попытки сделать жизнь удобнее.
Обилие предметов и их описаний поражает. Конечно, некоторые из этих описаний могут оказаться полезными для историка, допустим, скопинского краеведа. Но больше описаний иной природы – исторически вроде бы незначимого, случайного.
Вот пример, один из множества, но, кажется, очень выразительный. В конце 1970-х годов Дмитрий Иванович обводит контуры топорика, купленного его отцом в начале ХХ в. при строительстве нового дома. Ничего особенного в этом топорике нет. Но есть сильнейшее желание физически зафиксировать прошлое. Обычно Дмитрий Иванович это делает при помощи фотографий, но фотографии кажутся ему, видимо, чем-то недостаточно осязаемым.
Конечно, этому стремлению вспомнить прошлое до деталей напрашивается естественное объяснение, и его предлагает сам автор. Довоенный мир вспоминается как погибший – и, несмотря на бедность, как мир устроенного, любимого быта. Но дело, возможно, не только в этом. В XIX в. чаще публично говорили про то, что считалось общеинтересным. В ХХ в. все больше утверждаются права личной, индивидуальной истории.
В дневниковой записи от 16 февраля 1977 г. Журавлев приводит точные сведения о том, за сколько именно (за гроши!) 45 лет назад продавали, убегая из Скопина, скопинские вещи, остатки прошлой жизни (зеркало – за 150 руб., гардероб, книжный шкаф, этажерка, письменный стол и мягкая мебель из зала – два кресла, шесть стульев (в хорошем состоянии, их берегли, стояли в чехлах, которые снимали лишь на праздники) – за 165 руб.).
Работа над воспоминаниями сопровождалась попытками «реконструкции» скопинского пространства в Москве, где сначала ютились в перенаселенных коммуналках с соседями (Лялин переулок, Зубовский бульвар).
География московских адресов семьи начала складываться еще в скопинскую пору. Точка отсчета – 1913 г. В этот год Дмитрий Иванович вместе с отцом навещали в Москве больного Сережу, старшего брата. Евангелическая больница, куда положили мальчика, находилась на Воронцовом поле. Сретенка, Варварка, Мясницкая, Лялин и другие старые московские переулки и улицы исхожены вдоль и поперек.
Именно тогда, может быть, начал складываться и дал о себе знать будущий «писательский почерк» Д.И. Журавлева: он регулярно отправлял открытки домой, а в них тщательно и подробно перечислял все – и городские картинки, и обстановку в гостинице, в мельчайших подробностях, «включая чернильницу и ручку».
…Ходили мы с папой по Москве. Были в Кремле: Соборы – Успенский с гробницей патриарха Гермогена, Архангельский с гробницей царевича Дмитрия, в память которого дано мне имя… Памятник Александру II, окруженный галереей; внимательно рассматривал все мозаичные портреты царей на потолке галереи; очень интересовала мозаика: как из кусочков получается картина?
Спасские ворота – чрез них все проходили сняв шапку… Иверская часовня, где историческая Иверская икона Божией Матери и где непрерывно пелись молебны, всегда толпились богомольцы. Теперь эта икона в церкви у Сокольников, близ нас… Ходили по улицам. Сретенка. Лубянка. Немного Тверской. Мясницкая – почтамт, чайный магазин напротив, особенно живо украшенный… Стояли у витрины оптического магазина (на Лубянке?)[20].
Все внимание поглотил школьный телескоп: всю жизнь я любил звездное небо. «Что тебе купить на память? Выбирай!» – говорит папа. Но что можно выбрать? Кроме телескопа я ни на что не смотрел. Я понимал: 25 рублей расход для нас недопустимый. Так и промолчал. Пошли дальше…
Много лет спустя, в 1960-х годах, Журавлев тщательно записывал расположение звезд, наблюдаемых из окна городской квартиры и в Подмосковье, сравнивал пейзажи звездного неба в разное время года. На даче в Покровке скопилась и целая коллекция оптических приборов – она стала совместным «хозяйством», которым пользовались сообща с зятем, Вс. Н. Некрасовым, любившим такие игрушки.
Уже москвичом Журавлев в 1920–1930-х годах не раз бродил тем же детским маршрутом в поисках Евангелической больницы. Так и не нашел. Зато почти ежедневно многие часы проводил в читальном зале библиотеки Высшего совета народного хозяйства, неподалеку на Варварской площади.
Вечерами высокие стрельчатые окна пропускали густой синий свет, а весной особенно хорошо в сумерках видна Венера.
Эта «звездная картина юности, когда голову поднимал от стола с книгами», возвращается уже в старости, в Сокольниках. Запись от 11 января 1963 г.:
Святки. Ясно. Морозно. Луна. Иней. Из окон комнат волшебный вид <…> восход солнца за деревьями. Окна совсем не замерзают. Смотришь, как в кино. По утрам с подушки вижу Венеру – яркая рождественская звезда.
В 1962–1963 гг. Журавлевы купили квартиру в кирпичной девятиэтажке в Сокольниках. Окна выходят на зеленый двор, усаженный тополями, березами. Рядом старинный парк. Стромынка близко, но движение транспорта почти не слышно. У Дмитрия Ивановича впервые за много лет появилось собственное отдельное восьмиметровое пространство.
Летом всегда снимали под Москвой дачу. Наведывались в Мещеры, о. Иоанн удил рыбу и размечал в «памятной книге» особые места в Судогде, на Клязьме, на Оке. Сначала, когда перевезли отца из Скопина, дача была в Обираловке. В блокноте Дмитрия Ивановича, среди описаний лосей, зайцев, кабанов, свободно разгуливавших у озера или в лесу, лежит листок, на котором переписана сцена гибели Анны Карениной с комментарием:
Читаю роман в третий раз. Созвучен настроению. Начинаю свое.
Видимо, именно в 1930-х годах, в Обираловке, а еще во время отпускных поездок в Коктебель (1932) и на Кавказ по Военно-Осетинской дороге (1934) Журавлев записывает первые «подневные отчеты».
После войны дачу снимали в Кратове. Неслучаен юго-восток: путь на Рязань и Скопин, о которых напоминали торфяные запруды, песок и сосны Казанского направления.
В 1960-е годы «кристаллизации внутренней работы» помогло – кроме освобождения от службы и обретения собственного угла в Сокольниках – еще и то, что опять появился свой «сад»: купили участок в Покровке (по Октябрьской железной дороге, несколько станций за Солнечногорском, не доезжая Клина). Как обычно, Дмитрий Иванович точно датирует события: первые смотрины «дачи» – 25 ноября 1962 г.: садовый участок 800 кв м и летний стандартный домик. Покровку приобрели к Новому году благополучно, и сразу «окрестили» – «сад» (не «дача»), в память Скопина, где жили в доме Брежнева на 2-й Мещанской и имели сад на 1-й Новой.
Какое лето было первым в наших походах в сад? Два пути было: по Соборной – считали дальше, не мостовая, и по Успенской – в сырую погоду очень грязно! Это наши названия улиц, а настоящие – Садовая (вела к больнице) и Ряжская. Теперь их зовут иначе… Катя с 1921, я с 1922 г. жили на Покровке, Лялин пер., шестая комната за ванной. На Зубовский бульвар переехали в ноябре 1940 г. Теперь сад в Покровке. Престольный праздник в Журавинке (Лопатино тож). Покров праздновали у нас в семье, курники, поездки на Покров в Журавинку в детстве…
В 1981–1986 гг. один из авторов этой статьи бывал в Покровке. Дом не совсем обычный по тем временам, двухэтажный, на втором этаже комната с потолком низким и скошенным, зато два окна по разные стороны, что-то вроде балкона.
В ясную погоду сверху видно, как солнце за лесом садится. Крыльцо, вход на террасу не прямо, а сбоку. Там же, сразу от двери слева, лестница. Наверх можно подняться изнутри и снаружи по ступенькам. С террасы – дверь в комнату, внизу единственную. Она вытянута и непропорциональная. Перегорожена буфетом, шкафом, кроватями… Между печкой и простенком получилась выгородка, а в ней – внутренняя комнатка, совсем маленькая. Кабинет Журавлева. Стол из деревянных досок. Полки самодельные. На них инструмент, старые журналы, книги разрозненные, есть старые детские, тетради школьные, тонкие в выцветших обложках и «общие» в коленкоровых. Календари отрывные. На листах, в тетрадях, на оборотах лабораторных по физике и листов из методичек, рабочих материалов кафедры в институте землеустройства записи рукой Дмитрия Ивановича. На численниках старых особо отмечены восход и заход солнца, фаза луны. Много карандашей, простых, всегда заточенных; лежат по отдельности и стоят в деревянных стаканчиках, раскрашенных красными и золотыми цветами по черному фону. Готовальни – штуки три-четыре. На столе и на полке лампы: керосиновая с пересохшим ломким фитилем, несколько переносных электрических, со шнуром и штепсельной вилкой. Весы самого разной формы, вида и размера – с чашечками латунными, гирьками и без них. Барометры. В комнате и на террасе – два, у входной двери и в дальнем углу, рядом с окном, где стоял набивной диван с продавленными подушками. Барометрам все нипочем: один всегда показывал «ясно», другой – приближение грозы.
Скопинский мир, жизнь прошедшая и жизнь настоящая сознательно и неосознанно соединились в вещах, звуках, цветах, запахах, восстанавливаемых, знакомых с детства привычках, оглядках, внезапных и невольных озарениях памяти. Весь этот оживший скопинский опыт проступает сквозь садовую и городскую повседневность. Возвращение Скопина, его «реконструкция» случились окончательно, когда Дмитрий Иванович и его сосед в Покровке, Арсений Тихомиров, школьный товарищ, снова, как в детстве, занялись разведением пчел. Пчеловодство – всепоглощающее занятие, оно требует особых профессиональных навыков, сноровки, глубокого понимания биологических законов пчелиного существа, сосредоточенности и дисциплины. Ошибка в этом деле стоит дорого и оборачивается полной потерей и гибелью роя. Журавлев неутомимо уделял много времени поискам «материалов», изучению специальной литературы, поездкам на выставки. Вдохновенно, педантично и неукоснительно строго строил ульи, занимался очисткой и подкормкой, переносил расчеты в тетради. Покровский подмосковный сад и сад скопинский, замещая друг друга, стали одним целым:
Падают яблоки и стучат, как в Скопине…
Чудесный, теплый, тихий вечер. Совсем как бывало в Скопине.
Одна из самых поздних записей сделана весной 1979 г., когда безнадежно болела сестра:
Покровка брошена. Ульи разорены. Конец покровского гнезда.
* * *Текст, который предлагается в этой книге, – результат редакторского вмешательства. Например, то, что мы помещаем здесь в качестве финала (глава «Пчела. Конец»), строго говоря, нельзя назвать действительным финалом задуманного автором большого текста. Машинописные воспоминания, как уже было сказано, заканчиваются смертью старшего брата. Сжатый рассказ о событиях 1931 г., когда отец автора, протоиерей Иоанн Журавлев, пережив арест, был вынужден бежать из Скопина в Москву, извлечен нами из рукописной тетради под названием «Пчела»: для Дмитрия Ивановича конец его семейного гнезда, скопинского дома, оказывается финальным эпизодом истории пчельника (а не наоборот).
Оригинальная рукопись содержит около 25 авторских листов, и мы были вынуждены иногда сокращать ее, в частности, потому что текст, над которым Дмитрий Иванович работал вплоть до своей тяжелой предсмертной болезни, видимо, не был завершен в чисто техническом отношении (например, он содержит много повторов, которые при подготовке к публикации, по возможности, опущены). Не все, кажется, даже и гипотетически предназначалось автором для чужих глаз, для публичного предъявления (резкие оценки частных лиц, очень детализированное описание болезни и смерти брата).
Журавлев вспоминает прежде всего для самого себя и рефлектирует над собственной памятью, сопоставляя сделанные в разное время записи об одном и том же очень важном событии; не просто фиксирует свои выводы, но показывает, как к ним пришел и, сделав неверное, как кажется ему самому, предположение, не просто вычеркивает его, а оставляет в тексте и дальше сам себя оспаривает.
Среди неперепечатанных рукописных набросков самый большой – «Павелец», где описывается история семьи близких родственников Кормильцевых, живших в Павельце, одном из древнейших сел под Скопиным. Автор обдумывал этот текст в 1970-х годах, искал материалы. Например, о происхождении фамилии:
Вот эта легенда. Предок Кормильцевых в голодный год прокормил хлебом все село. И его односельчане иначе не называли, как «наш кормилец». Естественно, его семейные и потомки стали Кормильцевы. Кто же этот предок?.. Этот человек мог быть богатым хозяином, занимать общественную должность в 1830–1840-е, даже 1850-е годы.
Большое село Павелец, искони государственное, помещиков не знало, ибо волостное правление обычно находилось в наиболее крупном селении волости. И вот вопрос: мог ли даже богатый мужик во время голода прокормить большое село своими запасами? Ведь не был же он крупным оптовиком, ссыпщиком хлеба, не был и «епископом Оттоном»[21]. Обратимся к истории <…> Реформа Киселева проведена в 1838–1840 гг. Хлебные магазины устраивались как мера борьбы с голодом во время частых неурожаев. «…Магазины хлебные у нас в исправности… и законное количество хлеба имеется…» – читаем в «Записках охотника» Тургенева, отразивших быт села 1840-х гг. Это из рассказа «Однодворец Овсянников». Однодворцы при реформе Киселева приравнены к государственным крестьянам.
У меня сложилось такое представление: предок Василий как волостной старшина (тогда называли «волостной голова»), возглавлявший волостное правление, ведал киселевскими хлебными магазинами, даже возможно – сам устраивал их. И в голодный год он честно[22] использовал запасы, быть может, добавив к ним и свои собственные. «Кормилец!» – звучит как любовное прозвище благодарных односельчан.
Я подчеркнул «честно», ибо время темное, бесправное, каждый самый мелкий чинуша мужику «начальник». И следствие бюрократизма при отсутствии гласности – произвол, воровство, вымогательства, продажность, взятки… На этом фоне добросовестный человек, конечно, особенно выделялся и заслуживал благодарности.
Так вот, думаю, легенда вполне естественно вписывается в рамки исторического прошлого и сама приобретает черты исторической достоверности (7 июня 1976 г.).
«Случай Кормильцевых» показателен. В черновиках видно, какой обширный исторический материал привлечен, с каким удовольствием погружается автор в лингвистические разыскания, объясняя не просто значение – этимологию слов, комментируя особенности живой речи. См., например:
…Для современных ученых деятелей в области языка наиболее характерные черты – пренебрежение информационным качеством языка и погоня за «правильностью», то есть за соответствием придуманным нормам. Если для живого народного языка характерно стремление сократить (спасибо = спаси Боже, а местные даже – бознть = Бог знает, гыть = говорить…), то для искусственного ученого характерно стремление удлинить, восстановить первоначальное возникновение слова… К этой же категории «правильного» написания относится «двоюродный» вместо «двоюрный».
Кормильцевы мне – двоюрные. И о них я хочу написать немного о каждом в отдельности, что знал и что память сохранила. Порядок – случайный.
В центре главы – портрет Михаила Никифоровича Кормильцева, учителя рисования и чистописания, наладившего в Скопине распространение прописей собственного изготовления, фотомастерскую, в которой показывали снимки с помощью «волшебного фонаря». Немного «артист», надевавший «дворянский костюм», человек увлекающийся (избирался в местную Думу, но не прошел). Предприятия его, столь бурно начинавшиеся, рассыпались. Журнал «Пчельник» за недостатком подписчиков закрылся на втором номере. Не сумел он как следует поставить, сохранить и сберечь свое пчелиное хозяйство:
Причина неудач Михаила Никифоровича – в его недостаточной опытности, проще сказать – неумелости. Только предприимчивости и размаха мало.
Михаил Никифорович был важен для Журавлева по особенным причинам, как человек писавший:
…Для «художественной» формы был у меня «образец»: статья М.Н. Кормильцева в его журнале «Пчельник».
В «Двоюрных» есть почти лесковские новеллы. Вот одна из них – история Петра и Леонида Кормильцевых:
Лето 1914 года – война. Петю забрали в первые же дни мобилизации и отправили в составе Зарайского полка в Ковель <…> В мае у речки Дунаец немцы прорвали фронт. Начался быстрый отход. Наша армия отступала с Карпат. Петя попал в плен. Выстроили немцы пленных и стали распределять на работы. Вызвали: «Кормильцев!» Вышли двое – Петя и Леня, добровольцем ушедший в армию из Оренбурга и служивший совсем в другом полку. Так встретились два родных брата. Не захотели расстаться, оба вместе пошли на работу в крестьянское хозяйство немцев-швабов, колонистов в Венгрии, Темешвар. Лене – электромонтеру, способному человеку, было бы интереснее работать на заводе, там он мог бы приобрести квалификацию, но он не захотел расстаться с братом.
В семье швабов – культ труда, сытости и материального благополучия. Отношение к работникам – самое хорошее. Питание отличное. За обедом лучшие куски хозяин берет себе, потом работникам и уже только оставшееся – семейным, в том числе хозяйке. Посылая на работу в поле, давали работникам с собою свинины и прочей еды в таком изобилии, что те не съедали, остатки пленные зарывали в землю, чтобы не досталось врагам. Впрочем, Петя и Леня на такое обращение с харчем не решались. Ценили швабы и берегли рабочую силу! Весь уклад жизни для наших необычный. Без дела не сидят. Приходят гости, работу не прерывают, но гости включаются в помощь <…> Вернувшись из плена в 1918–1919 гг., добирались целый месяц. В пределах Австро-Венгрии эшелоны пленных на станции получали харч. Переехали границу – на каждой станции шумная встреча, забрасывали их газетами, брошюрами, воззваниями и… никаких пайков! Голодали отчаянно, да и власти по пути менялись <…> По своей земле целый месяц ехали…
Почему-то именно «Павелец» – глава, самая насыщенная преданиями. Журавлев вообще-то не склонен был увлекаться легендами, небылицами, передавать слухи и если обращался к ним, то очень дозированно, неизменно сопровождая проверкой, доказательством и скептическим замечанием. А в той главе преданий немало. Потенциальная «художественность» просилась на бумагу. Не потому ли автор не перепечатал рукопись?
В Павельце жил знаменитый человек Максим Синичкин. Это что-то вроде московского «Ивана Яклича»[23], сектант – не сектант, юродивый – не юродивый. В моем представлении – человек умный. Он пользовался громадным авторитетом в народе. К нему шли во всяких трудных случаях жизни за советом, за пророчеством. Его почитали множество поклонников и особенно поклонниц <…> Помню одно его пророчество. В разгар гражданской войны и разрухи он говорил: Россию спасут двое – дворянин и попович. Пророчество исполнилось: одну из двух мировых «сверхдержав» создали дворянин Ленин и попович Сталин…
Это последнее замечание нельзя оставить без внимания. Дмитрий Иванович не противопоставлял себя советской жизни, что особенно заметно в письмах и дневниках. Сравнивая себя и одного из своих ровесников Кормильцевых, Журавлев пишет:
Разные мы с ним люди. Я смотрел на вещи с точки зрения интересов народа и свою будущую деятельность хотел посвятить служению обществу. Брат оспаривал. Единственный интерес в жизни он видит в служении лично себе, в своей личной материальной пользе <…> И если он сторонник советской власти, то только потому, что на этом пути он сможет построить личное благополучие; до других ему дела нет…
Заметим, что в беловой машинописи воспоминаний – об этом предоставляем судить читателю – есть и другое, иногда резко критическое отношение к советской жизни, причем не к частностям ее, а к общему духовному состоянию («одичание»); впрочем, дореволюционную Россию (особенно официальную идеологию, систему образования) Журавлев тоже не идеализировал.
* * *Публикаторы должны признаться, что они не только выбирали, что печатать, а что нет, но и придумали название книги. Собственного названия воспоминания не имеют (хотя отдельные главы озаглавлены), потому, видимо, что автор не готовил их к публикации. Выбранное нами – «Скопинский помянник», – отсылая к одной из главных для автора семейных реликвий, должно было (хоть слово здесь и употреблено метонимически) давать представление о природе книги, выросшей из разных «документальных» жанров: писем, дневниковых записей, того же семейного Помянника в прямом смысле слова.
Трудно сказать, насколько определенными были представления автора о предполагаемом читателе. Понятно, что о печатной книге в сколько-нибудь обозримом будущем речи не было[24]. При этом некоторым близким людям Дмитрий Иванович давал читать написанное (и иногда наводил у них справки: у Татьяны Владимировны Розановой – из истории церкви). В воспоминаниях много объяснений старых реалий, слов, т. е. того, что предполагается непонятным читателю в 1960–1970-х годах (например, элементы богослужения). Получается, что воспоминания обращены и к «чужим», к людям другого поколения и советского воспитания, к кому-то вроде его студентов.
Дмитрий Иванович Журавлев умер 15 июня 1979 г., вскоре после смерти своей сестры, Екатерины Ивановны Журавлевой, и похоронен рядом с ней на Долгопрудненском кладбище.
Г.В. Зыкова, Е.Н. ПенскаяГлава первая
Родословная
да думаешьдумаешь там и дядя и мамавходишьи пёс[25] и кот спит ивидит саднас в садувеснавсюдуяблонии это всё здесьцвететВс. Некрасов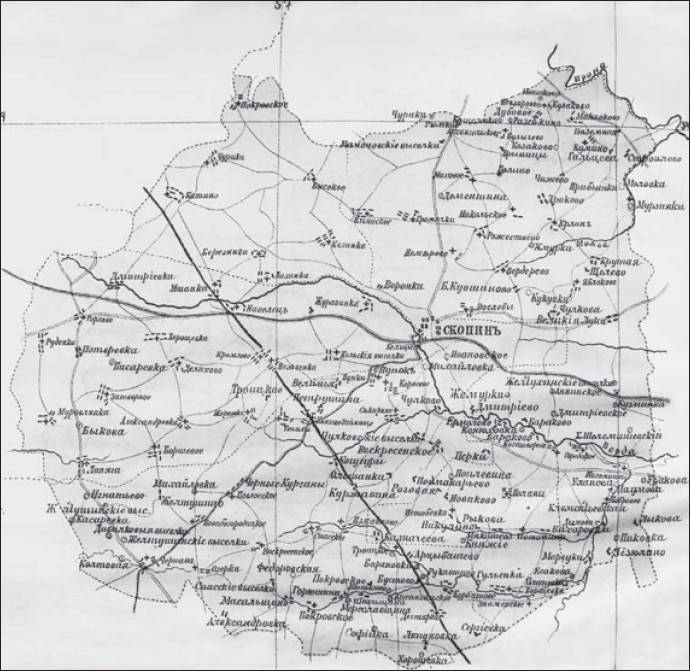
ИСТОЧНИКИ
Источники моих сведений о далеком прошлом:
Рассказы бабушки Настасьи Ивановны. Когда-то я расспрашивал ее о временах прошедших, но не записывал, и многое забыто.
Рассказы тети Анны Дмитриевны о старине. Она любила сопоставить прошлое с современным и часто говорила: «В старину делали так…», «В старину не так было…». Помню и наш детский недоуменный вопрос: «Тетя, когда старина кончилась?».
Воспоминания папы Ивана Дмитриевича позднего времени. Родословная таблица. Ее я составил с помощью папы 9 января 1955 г. Годы рождения и смерти поставлены позже.
Бумаги и документы, перешедшие в мое распоряжение после смерти папы. Среди них «Помянник священника Пятницкой города Скопина церкви Иоанна Дмитриевича Журавлева» – книжка в осьмую долю листа, знакомая с детства. Помню: папа сидел за своим письменным столом, тем самым, за которым я в саду в Покровке[26] пишу эти строки (17 июня 1969 г.); Сережа и я у него на коленях; эта книжка и карандаш в моих руках, и я в ней «написал»; «писал», возможно, и Сережа – начеркано на нескольких страницах. В Помяннике перечень имен умерших, в родительном падеже: «Помяни, Господи, души усопших раб Твоих…». Все они прочитывались за Литургией, когда служил сам папа. <…> На полях не всюду – даты смерти и иногда фамилии. Поэтому я знаю время смерти многих мною упоминаемых, но не знаю дат рождения. Большинство имен мне ничего не говорит.
Сохранилась переписка с Сережей, когда он лежал в московской больнице, и мои записи о его смерти. В начале 50-х годов я перепечатал на машинке письма и записи о смерти Сережи, бабушки, тети, последнее письмо дяди Паши.

