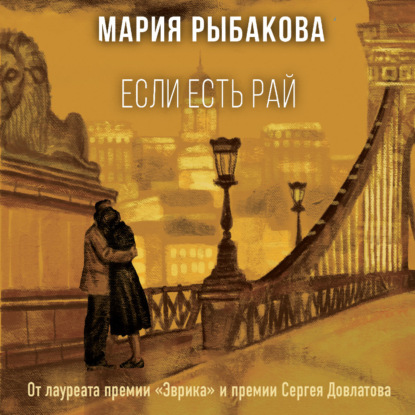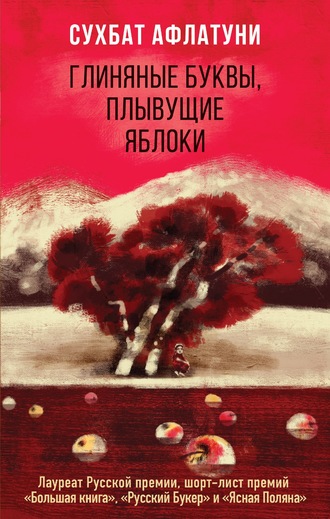
Полная версия
Глиняные буквы, плывущие яблоки
А Председатель с Агрономом заперлись в сельсовете. О том, что они живы, мы узнавали только по звуку падающих из окна пустых бутылок.
Не в силах вынести этот позор, мы, мужчины, ушли из села. Мы ушли в мир, чтобы принести из него воду. Остались старики и мальчики без усов. Мы боялись, что они умрут и обмыть будет нечем.
Когда через два дня мы вернулись, оказалось, что кто-то приходил в село и всех напоил. Старики подтвердили. Один сказал: «Это были граждане ада, и вода, которую они нам принесли, была водой ада». Кто-то спросил: «Разве в аду есть вода?» – «Есть, – подтвердили старики. – Это вода, от которой еще больше хочешь пить, и если выпьешь ее много, умрешь от жажды».
Они больше не приходили. Мы называли их «люди листопада». Иногда мы называли так себя. Зло превращалось в добро, и обратно, не меняя своей химической формулы. Как игра в нарды: белые и черные кости меняются местами. Любимое развлечение Председателя.
10
Ад закончился. Люди забрали свою песню и ушли.
Я потянулся плачущими пальцами к графину с водой.
Но воды не было. И здесь – воды не было.
Во рту ворочался и кусался соленый огонь. Язык был не моим, приклеен ко мне от незнакомого человека. И жажда такая, как будто толченым стеклом объелся.
Всё от нехватки воды. У нас мозг растрескивается, как земля. Носим в голове глину, песок. Еще на каких-то грунтовых водах думаем-чувствуем, но плодородие из головы ушло. А если водкой такой мозг накормить, то вот эти, с «милым августином», на тебя идут.
Я посмотрел на Мусу. Вот у него, кажется, с августинами всё в порядке. На щеках красовались обычные винно-водочные слезы. На учителя я боялся смотреть.
А Председатель уже на другого ишачка пересел: цифрами поливает. Земли две тысячи гектаров, столько-то дворов, столько-то в них скота, телевизоры встречаются.
Смотрю, мимо меня комар проплыл; поздно, значит. Пора уже из гостеприимства этого вырваться и домой по-человечески пойти. Говорю Председателю:
– Как насчет моего дела?..
Он поморщился, как будто я его луковицей угостил: так и быть, приходи завтра… И цифры всё свои разворачивает. А потом вдруг торжественным голосом:
– Но нашим людям не хватает главного… Веры! Им нужна вера. Мы с Агрономом дадим им веру.
Тут даже Муса плакать перестал.
Ничего не понимаем. Председатель на должность муллы примеривается? Или явился им с Агрономом какой-нибудь зеленый ангел, новую религию по секрету прошептал?
Председатель замолчал и стал похож на памятник. Агроном тоже молчал, хотя и не так значительно. В отличие от Председателя, который от водки только трезвел, Агроном был уже под огромной мухой и всё время улыбался.
Накупавшись в потоках всеобщего изумления, Председатель сказал:
– Город! Наше село должно получить название города.
Муса не выдержал и снова заплакал.
Председатель стоял и рисовал прекрасные картины. Эти картины сопровождались киванием Агронома и всхлипами Мусы; во дворе выла собака, которая устала, наверное, сидеть в ожидании террористов.
– Город поможет нам решить вопросы с водой. Для города правительство всегда воду найдет. Оно пошлет сюда технику и выкопает глубокий колодец. Там обязательно будет вода, прозрачная, как… как…
– Водка, – подсказал Агроном.
– Нет! Еще прозрачнее. Может, в этом колодце еще и нефть найдут. У нас ведь нефть, кажется, не искали?
– Мне мой отец покойный говорил, что, когда он в школу ходил, геологи здесь что-то искали, землю царапали, – сказал Муса, всхлипывая.
– Та-ак. Ну это когда было? За это время уже столько нефти образоваться могло… Нет, только город. Вот увидите, как город решит наши проблемы. У вас даже глаз моргнуть не успеет… Широкие проспекты, тенистые сады с шашлыком и мороженым.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Перепелка.
2
Исрык – Гармала или могильник. Высушенным исрыком окуривают от злых духов.
3
Ватное одеяло.
4
Растение, используемое для окрашивания бровей.
5
Особо приготовленный табак, закладывается под язык.
6
Шарики из сухой брынзы.