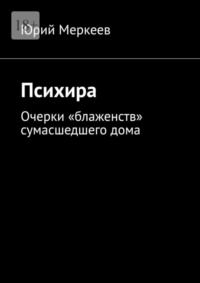Полная версия
ГруЗдь моего настроения. Рассказы и миниатюры
Судья поглядывает на меня с недоумением, прячет улыбку в кулак. Медленно приближается к секундантам, о чем-то шепчется с ними. Потом проверяет перчатки, не сунул ли кто из нас в конский волос какую-нибудь свинчатку? Приглашает поприветствовать друг друга. Передо мной круглолицый рыжий паренек, не похожий на боксера. Зачем он здесь? Выиграть? Но выиграет только один из нас.
Мой секундант – Генка Кирпич. Разминает плечи, басом шепчет в самое ухо: «Сделай его технично. Ты сможешь. Психологически ты его уже раздавил. Выглядишь как смерть с косой. Руби его сразу!»
– Он из центра?
– Из центра. Вишь, как разодет? И глядит свысока. Не подведи.
Гонг. Бой начался.
А дальше все как в ускоренном кино. Начинаю танцевать на ринге. Ногами выплясываю рок-н-рол. Генка что-то кричит, не разобрать. Толпа в зале заводит. В ушах сплошной гул. «Красный» летит на меня, обрушивает удары, но сам закрывает глаза и опускает челюсть. Новичок.
– Лешка, давай! Работай прямыми в голову. Он открыт. В челюсть бей! В челюсть!
– Витек, навязывай ближний бой. Не открывайся. Челюсть закрой.
Три раунда по две минуты. Время как привязанное. Раунд длиться не две минуты, а сто двадцать секунд, и каждая секунда весом с десяток кирпичей. Не понимаю, кто выигрывает. Пытаюсь ударить противника в голову, но проваливаюсь в воздух. Он бьет меня по корпусу и теряет равновесие. И тут мне удается уклониться и провести правый прямой в челюсть. У «красного» появляется кровь на губе.
– Молоток, Лешка. Окропил красненьким. Молоток!
Это мой секундант.
Во время перерыва Генка шепчет, что я выигрываю по очкам. Это я? Выигрываю? По очкам? Черт возьми! Бодрит.
– Нокаутируй его, Леха, сделай красиво. По очкам не то. Надо красиво.
Генка заводится.
В третьем раунде попадаю Витьку в голову, и он падает. Рефери считает до десяти. Нокаут. Адреналиновая волна бьет мне в лицо. Сам чуть не падаю от приступа радости. Я выиграл. Это я-то выиграл? Быть не может. В трусах с нарисованными синими полосками. С фиолетовыми губами. Боже мой! Нокаут. Первый бой на ринге, и нокаут.
Самый торжественный момент. Рефери берет нас за руки, выводит в центр ринга. Выдерживает паузу. В зале тишина. Произносит вслух мою фамилию и резко вздергивает вверх руку. Победа нокаутом. Меня обнимают, хлопают по плечам. Краем глаза замечаю, что из губы моего противника по-прежнему сочится кровь. Черт возьми. Я победитель. И все-таки подавленный вид «красного» вызывает во мне жалость. Подхожу к нему, жму руку в перчатке, говорю, что он хороший боксер.
– Ладно, – улыбается он. – Не корову проиграл.
Спускаюсь в раздевалку. И сразу в душ. Теплая струя воды падает на лицо, обжигает ссадины от касательных ударов противника. Гляжу под ноги и смеюсь. Фиолетово.
Тихая Серафима
Она начинала собираться всегда в одно и то же время – за сутки до Рождества. Сначала ей приносили зеркало, которое запрещали держать при себе в палате, и Серафима приводила в порядок лицо. Потом надевала серое вязаное платье, закалывала волосы, и вертелась у серебристой амальгамы, словно девушка перед первым свиданием. Морщины исчезали, точно по волшебству, тихая печаль в глазах и уголках губ сменялась искренней детской радостью. Старушка преображалась, становилась похожей на ангела – тихая, улыбчивая, светлая, с большими слезящимися глазами.
Санитарки несли ей из приемного покоя зимнюю шубу и сапоги, а она, складывая личные вещи из тумбочки в узелок, тихо приговаривала:
– Сегодня он приедет на машине и заберет меня. Николай мой хороший. Золотой зять. У него своя машина. С дочкой приедут и отвезут меня в деревню. Не хочу я умирать в городе. Хочу ближе к родителям.
Вокруг девяностолетней Серафимы Ивановны начиналась суета, а ей это нравилось потому, что в полдень за ней должен был приехать любимый зять, и отвезти ее на родину.
Кроме нее, в палате лежали трое: все инвалиды по органическому заболеванию головного мозга. Почти и не говорящие. Серафима Ивановна прощалась со всеми, как с родными, расцеловывала санитарок, медсестер, врачей и выходила в коридор… ждать.
За окнами с решетками вьюжило, в больнице было тепло, но пахло не мандаринами, а карболкой. Украшенная елка свисала с потолка вниз головой – задумка заведующего отделением.
Проходил час-другой. Никто не звонил в дверь клиники, зять не приезжал. Серафима Ивановна растерянно улыбалась и начинала оправдывать Николая:
– Ну, знаете, мало ли что? Может быть, на работе задержали? Он ведь на ответственных должностях. Он добрый. Переживает, поди, больше меня. Задерживается. А дочка без него не приедет. Они у меня хорошие. В церкви на Рождественской венчались.
Ближе к вечеру санитарка уговаривала старушку раздеться и прилечь отдохнуть, та соглашалась. Серафиме Ивановне делали успокаивающий укол, и она погружалась в сон. А во сне улыбалась. Возможно, видела, как ее зять приезжает за ней на машине и увозит на родину.
Когда дежурил заведующий отделением, он пояснял молодым врачам:
– Каждый год накануне Рождества в ней срабатывает какой-то странный механизм включения памяти. Вот уже несколько лет. В один и тот же день. Не могу объяснить. Несколько лет назад в это время года ее привез сюда на машине зять Николай. И попросил на время принять старушку, потому что она стала обузой в семье, забывала закрыть дверь, несколько раз чуть не сожгла квартиру, газовые конфорки опять же. Старческая деменция, маразм. Чтобы больная не противилась, Николай этот пообещал старушке, что заберет ее накануне Рождества и отвезет на родину, как она хотела. Прошел год-другой. Потом мы узнали, что вся их семья попала в автокатастрофу. Не выжил никто. Забирать старушку некому. Рассказать правду пытались, да она руками машет. Не слушает. Говорит, что зять ее золотой человек. Что он приедет и увезет ее. И так с ней происходит много лет. Мы уже привыкли. Санитарки жалеют Серафиму. Наступает канун Рождества. Она просыпается первая, начинает петь, улыбаться, просит принести зеркало. Готовится к приезду зятя. Тихая она. Хоть и зовут Серафима, огненная то есть. Нет, тихая. Утром проснется после укола, ничего не помнит. И так весь год.
Однажды Серафима не проснулась в палате, а пробудилась в ясном и ласковом месте, залитом солнечным светом, счастливая от того, что к ней пришел Николай. Зять? Это был не зять. А если зять, то уж как-то волшебно он посветлел лицом, волосы его стали белыми, борода седая. Постарел. Он улыбнулся и повел старушку Домой – как она и мечтала. «Святой, – шептала она. – Святой… Николай».
Санитарка, первая обнаружившая покойную Серафиму, тихо перекрестилась и прошептала: «Отмучилась, бедняга. С улыбкой умерла. Знать, принял Господь ее душу».
Миссия
Ночь была тихая морозная лунная. Снег хрустел так, что мне было слышно идущего по ночному городу за три квартала от больницы – несмотря на то, что я находился в приемном покое, в кресле, дремал. Выспаться на дежурствах никогда не удавалось, потому что сон был прозрачный – как бы между состояниями бодрости и дремоты. И сон видишь, и все чувствуешь вне этого сна.
Примерно в три часа ночи в дверь позвонили. Я побрел открывать, зная, что в такое время обычно привозят либо очень буйных пациентов, либо социально опасных – с преступными идеями в голове. Не так давно один шизофреник, который усыпил бдительность психиатров тем, что целый год в больнице писал любовную лирику, вышел на каникулы домой и первой же ночью затаился во внутреннем дворике, дождался ночного обхода и «одарил» своего лечащего врача-женщину выстрелом новогодней хлопушки в лицо. Видимо, считал, что у него не игрушка, а дробовик. Потом только выяснилось, что весь год у больного в голове тикали часовые механизмы мин и повсюду пахло трупами. Его потом отправили в спецбольницу, а женщина, оправившись от шока, стала заведующим отделением. Главный врач решил повысить ее в должности.
В этот раз дежурная бригада скорой помощи доставила в первую клиническую бывшего психиатра. В моей практике санитара приемного покоя это было впервые. Сумасшедший психиатр. Я, конечно, слышал о том, что всякие страсти заразительны, что можно под влиянием какого-нибудь буйного рок концерта обернуться человеком толпы и пойти вместе со всеми крушить витрины магазинов. Страсти заразительны, если не иметь иммунитета. Но тут – дипломированный врач-психиатр. Причем, знакомый тому доктору из бригады скорой помощи, которая его привезла в больницу.
– Вчера еще сняли его полицейские с троллейбусного маршрута, – проговорил Куницын, заполняя направление в стационар. – На мосту троллейбус резко свернул направо и пробил ограждение. Чудо спасло людей от падения в Волгу на лед. Трупов было бы не меньше полсотни. А за рулем был наш уважаемый коллега Максим Петрович.
Высокий худой манерный мужчина средних лет невозмутимо улыбался, положив ногу на ногу. Он как будто свысока поглядывал на всех нас.
Санитары бригады скорой вышли на улицу покурить.
– Куда его оформлять? – спросил я.
– Только на первое. Есть места?
– Есть.
Я позвонил Елене Сергеевне, дежурившей ночью по больнице, она дала добро на первое. В архиве я нашел историю болезни бывшего психиатра и стал ее заполнять.
– А как же его допустили до вождения общественного транспорта? – спросил я у Куницына.
– Так у него ж связи. Старые связи остались. Разве бывшему психиатру сложно поставить печать в справке о нормальном психическом здоровье?
Я покачал головой. «А если бы троллейбус рухнул? А если бы в нем ехала моя жена?» – подумалось мне.
Больной психиатр пристально в меня вглядывался. Словно ожидал вопроса.
– Зачем вы это сделали, Максим Петрович? – наивно спросил я.
Он оживился, демонстративно поправил черный носок на левой ноге, а белый на правой, потом попросил спичку, надломил ее и дал мне.
– Не понял, – ответил я. – Что это означает?
– Вы не понимаете очень простой вещи. Все, что с нами происходит, это происходит только у нас в голове. Я сломал спичку. Что, по-вашему, произошло? Только то, что я сломал спичку. На самом деле, от этой сломанной спички пошла цепная реакция, которую мы не видим. А если бы мы увидели, то непременно стали бы делать только те вещи, которые имеют осознанные последствия. Так и с троллейбусом. Если бы я его столкнул, тогда полностью была бы решена проблема голода во всем мире. Понимаете?
Я покачал головой.
– Вы хотели спасти человечество? – удивился я.
– Ну, конечно! – воскликнул больной и начал возбужденно ходить по комнате. – Вы не даете мне совершить жертву Христову. Вы все наймиты у сатаны. Я хочу на свободу. И я это сделаю.
Максим Петрович резко дернулся в сторону двери, но уперся в двух санитаров, которые курили на улице.
Он вернулся, обмяк.
– Ладно, нехристи, ведите в наблюдательную палату. Не хотите избавить мир от голода? Дело ваше. Мое – ждать.
С этими словами он рассмеялся как ребенок. А я подумал: «И ведь найдется когда-нибудь такой миссионер, который решит спасти человечество от голода, уничтожив для этого …пару миллионов людей». И все довольно логично: меньше людей – меньше голодных.
На Казанской
Ольга приехала на работу за полчаса до открытия аптеки. Завывал сильный ветер. Рассыпчатый, как крупа, снег бил в лицо, норовя залепить глаза и уши и залезть под воротник. Лампочка уличного освещения у аптеки болталась, словно буёк на море во время сильного шторма. Отключив сигнализацию, женщина зажгла свет и, расстегнув шубу, опустилась на стул и стала наблюдать из тёплого помещения аптеки за тем, как беснуется непогода. «Перед Рождеством дьявол всегда старается навести на людей смуту», – подумала она, вспоминая свою бабушку, которая в сильную метель всегда крестила окна и говорила: «Свят, свят, свят».
На улице замаячила знакомая тень дяди Миши, алкоголика из дома напротив, который подходил к аптеке раньше других и был для Ольги своеобразным талисманом хорошей торговли. Из жалости она пускала его раньше времени. Вот и сегодня она открыла ему дверь, и в аптеку заскочил трясущийся старичок с опухшим лилово-синим лицом и заиндевевшей рукой протянул мелочь.
– Оленька, милая, не дай помереть старому, – пробормотал дядя Миша и зашёлся в нездоровом лёгочном кашле. – Пузырек «Боярышника»… Гхе-гхе-гхе… Рубля не хватает. Занесу в обед, гхе-гхе-гхе.
– Смотри не обмани, дядя Миша.
– Что ты?! – испуганно воскликнул озябший мужчина, судорожно прижимая флакончик с «живительной влагой». – Вот тебе крест!
Дядя Миша попытался вычертить в воздухе подобие креста, и Ольге вдруг стало стыдно от того, что она вынудила старого человека клясться самым святым ради флакона «Боярышника», и она виновато улыбнулась и махнула рукой.
– Ну, иди, дядя Миша. Я тебе верю. Иди. Я пока аптеку закрою. В порядок себя приведу.
Закрыв дверь за первым клиентом, Ольга ушла в комнатку, в которой она и её коллеги переодевались и обедали, и до восьми утра там просидела, накладывая на лицо утренний макияж.
К восьми подошла напарница Юля, жизнерадостная оптимистка с оловянными глазами, и аптека начала работать. Первая партия посетителей сплошь состояла из одних пьяниц, которые с трудом наскребали с утра мелочь, для того чтобы похмелиться сообща недорогим аптечным продуктом. Вслед за ними появлялись люди из второй партии. Эти торопились на работу и забегали по пути в аптеку, чтобы купить какое-нибудь разрекламированное по телевизору лекарство. «Сегодня будут спрашивать от гриппа, – безразлично подумала Ольга и, подняв глаза на табло электронных часов, тяжело вздохнула. – Боже, как долго тянется время! Как привязанное…»
В начале девятого в аптеке скопился народ. Вчера телевидение напугало доверчивых обывателей надвигающейся эпидемией гриппа, и мнительные горожане ещё до прихода самой эпидемии заразились вирусами болезни от чихающих телевизионных человечков.
В аптеку зашёл местный журналист Прохоров. Одет он был в чёрное драповое пальто с меховым воротником; в руках держал цветы, коробку конфет и шампанское. С ним точно праздник вошёл в аптеку. Очередь почему-то заулыбалась. Ольга выскочила к нему из-за прилавка и несколько минут стояла рядом с журналистом, розовея от комплиментов, которыми он её осыпал. Выйдя в очередной раз из запоя с помощью лекарств, припасенных для него специально Ольгой, мужчина поздравил ее с наступающим Рождеством и вручил цветы, шампанское и конфеты, а так же свежий номер местной газеты, в которой работал.
За прилавок Ольга вернулась радостно-возбуждённая, со сверкающими глазами.
– Это тот самый? – с улыбкой спросила Юля.
– Ага.
– Ничего. Вежливый. Старый только. В очках. Умный, наверное. С чем это он тебя поздравлял?
– С Рождеством.
– С твоим?
– Бог с тобой, Юля, – блаженно улыбнулась Ольга, втягивая в себя аромат роз. – С Рождеством Иисуса Христа.
– А-а, – протянула жизнерадостная оптимистка с оловянными глазами. – Ты же знаешь, в церковь я не хожу, и в Бога не верую.
– Юль, покараулишь отдел? Пойду, цветы отнесу и чайник поставлю.
– Хорошо, – ответила напарница.
– А мужчина, между прочим, и не должен быть красавцем, – сказала вдруг Ольга, словно отвечая каким-то своим потаённым мыслям. – Главное, чтобы у него голова была на плечах.
И она понесла подарки и хорошее настроение в раздевалку. Вскоре ей пришлось вернуться в отдел, так как в аптеке скопилась очередь и появилась ворчливая и вечно чем-то не довольная заведующая Галина Ивановна, которая постоянно срывала своё дурное настроение на подчинённых.
После обеда, до пяти-шести вечера, в аптеке наступал мёртвый час. Изредка заходила какая-нибудь пенсионерка купить недорогих лекарств и заодно пожаловаться на жизнь. Многих старушек Ольга знала и обращалась к ним по имени-отчеству, ласково, как к добрым знакомым, и они отвечали ей тем же, называли «внучкой» и рассказывали разные истории из своей жизни. И Ольга как губка впитывала в себя чужую боль.
Когда ей было тяжело выслушивать бабушек, она совала им бесплатно какие-нибудь копеечные таблетки, словно откупалась от них, и, извинившись, уходила в раздевалку или на склад, где отдыхал грузчик дядя Вася. И до неё через приоткрытые двери доносилось, как бабушки шумно благодарили ее, словно она одарила их не копеечными таблетками, а золотом, и раскланивались, как в церкви, со словами: «Бог спасёт, внучка. Бог спасёт». Когда бабушки покидали аптеку, на Ольгу наваливалась какая-то грусть, и хотелось плакать. «За что Бог дал мне такую чувствительную душу? – думала она, едва сдерживая слёзы. – Вот Юлька молодец! Стоит себе весь день, как мумия, улыбается, думает о дискотеках, машинах и мальчиках, и хоть бы хны! Но ведь к ней и бабушки почему-то не подходят. Как видно, есть в её глазах что-то такое, что отпугивает их, как ворон пугало. Это я, глупая, всё выслушиваю, киваю головой, будто своего горя мало».
Она вздохнула, вспомнила журналиста и улыбнулась. «Какой он всё-таки внимательный, добрый, цветы принёс… розы! Это перед Рождеством-то розы! И шампанское…».
– Плохо, девочки, работаете, – врезался вдруг в её мечты недовольный голос заведующей аптекой. – Выручки никакой. У нас грипп на носу, а выручка хуже, чем летом. Хотела вас отпустить на Рождество, да не выйдет. Завтра работаете весь день. Всё. Я ушла.
Когда за Галиной Ивановной закрылась дверь, в аптеке как будто дышать стало легче. До конца смены оставалось чуть больше двух часов, и Ольга наперёд знала, как пройдут они: появится дядя Миша с деньгами, оживший, разрумяненный, с влажными пьяненькими глазами, любвеобильный, разговорчивый. Он заплатит долг и купит наперёд несколько флаконов «Боярышника», чтобы дожить до утра, а завтра явится к аптеке первый и будет маячить у окон, ожидая, когда у сердобольной Оленьки дрогнет сердце, и она впустит его внутрь.
Так пройдёт день, другой, третий… Может пройти вся жизнь.
С большим трудом Ольга доработала до лета и стала с нетерпением считать дни до отпуска. Душа её была опустошена, нервы никуда не годились, и она могла из-за какого-нибудь пустяка на работе разреветься, и Галина Ивановна уже не раз отпаивала её валерьянкой, догадываясь, что причиной сей болезни являлась неустроенная личная жизнь. Журналист куда-то пропал, наверное, перестал выпивать и не нуждался в лекарствах.
«Уеду в деревню к маме, – подумала она, пытаясь отогнать от себя назойливые мысли о журналисте. – И дочка отдохнёт от города, молочка попьёт из-под коровы. Будем купаться в озере, загорать, ходить в лес за ягодами и грибами…». Она вспомнила, что мама её не одобряла курортного времяпрепровождения в деревне, осуждала и злилась на Ольгу, если та с утра до вечера не трудилась на бесконечных грядках, не носила воду из колодца, не поливала огурцы, помидоры. И Ольга решила не ездить в деревню, а отдохнуть в городе. И мысли её вновь закрутились вокруг персоны журналиста. И женщина, наконец, поняла почему: она влюбилась!
Каждый год в праздник Казанской иконы Божьей Матери в городе был крестный ход. Толпа паломников шла следом за иконой, которую несли на плечах на подпорках четверо мужчин. По народному поверью, тому, кому удавалось три раза поднырнуть под иконой, прощались все грехи, накопленные за год; девушек ждал счастливый брак, мужчин – оставление дурных привычек.
Ольга всегда с благоговением относилась к народным поверьям, обещавшим неожиданное счастье.
На Казанскую аптека работала. До отпуска оставалась неделя. Приехав раньше обычного, Ольга собрала свои волосы под косынку, сорок раз прочитала про себя «Богородицу» и вышла на улицу, ожидая икону. Нервы её были истончены до того предела, за которым у религиозно настроенных женщин часто случается восторг, мистическое переживание. Глядя перед собой на дорогу, откуда должен был появиться крестный ход, она загадала, что, если три раза поднырнёт под иконой, то непременно и немедленно получит счастье. Сегодня же. И это счастье в её понимании было связано с мужчиной, который дарил ей цветы, конфеты, шампанское и… тёплые, ласковые слова.
– Ты что здесь стоишь? – удивлённо спросила Юля, проходя мимо застывшей в ожидании иконы Ольги.
– Жду.
– Кого ждешь?
– Богородицу.
– Ко-го? – удивлённо заморгала напарница и, взяв из рук Ольги ключи, бросила на неё подозрительный взгляд, – совсем рехнулась перед отпуском девка.
Наконец, появилась Казанская икона Божьей Матери. Носилки несли на плечах четыре бородатых паломника, одетые в белые навыпуск рубахи. Они шли босиком, но передвигались быстро, уверенно. За ними едва поспевали старушки, но умудрялись забегать вперёд и бросаться перед иконой на колени. Богородица плавно проплывала над ними, а они поднимали ей вслед плачущие глаза и за что-то усердно благодарили.
Издали Крестный ход напоминал корабль, медленно плывущий по главной улице города. Когда икону проносили около аптеки, Ольга изловчилась и три раза поднырнула под ней. На работу она пришла счастливая, загадочно-притихшая, словно она узнала что-то такое, о чём не знали ни Юля, ни Галина Ивановна, ни дядя Вася.
После обеда в аптеке появился журналист Прохоров. Он, как видно, очень плохо переносил жару и был пьян. С его лба на шею стекали крупные капли пота. Рубашка под рукавами и на спине была мокрая. Выглядел он больным и старым. Он пил уже неделю и теперь пришел просить у Ольги лекарство, без которого был не в силах остановить запой. Ольга выслушала его с блаженной улыбкой на устах, а затем стала говорить о своём, наболевшем. Она рассказала о крестном ходе, о Богородице, о том, что ей удалось три раза поднырнуть под иконой и о том, что она чувствует, что сегодня в её жизни должно случиться что-то из ряда вон выходящее.
Тяжело отдуваясь и вытирая пот, Алексей терпеливо слушал её, поглядывал воспалёнными глазами на часы, затем вдруг сурово перебил её:
– Про ныряния под иконой – чушь. Жажда ленивого даром получить счастье. По щучьему, так сказать, велению да по моему хотению. Ерунда это всё. Прямо слушать противно.
Ольга остолбенела. Только что дорогой её сердцу человек «убил» её, растоптал самое святое, наплевал в душу. Она побледнела. Губы её затряслись, и вдруг всё то, что копилось в душе на протяжении последних двух лет каторжной работы, хлынуло из её глаз жгучими слезами. С ней сделалась истерика. Галина Ивановна тут же подскочила и увела Ольгу в раздевалку, где налила ей немного медицинского
спирта с валерьянкой, заставила выпить и сочувственно кивала головой, пока Ольга изливала ей свою душу.
Постояв несколько минут в аптеке, обескураженный странным поведением женщины, журналист позвонил в редакцию, попросил у главного две недели отпуска за свой счёт и покатил на такси к знакомому продолжать кутёж.
На Святочной
После белого сухого был судак «по-министерски». Потом плясали, дурачились, снова сели за стол. Под звездный коньяк подали свинину духовую в собственном соку. Кто-то из гостей пошутил: «свинина духовная», и все почему-то посмотрели на Сан Саныча, который тоже улыбнулся этой нелицеприятной шутке. Он был тучен.
Гуляли, как всегда – всем отделом. В святочную ночь в «Купеческом клубе». Весь отдел культуры городской администрации.
Нинка из бухгалтерии была в оранжевом платье с глубоким декольте. Наступал год петуха по китайскому календарю. Секретарша Оля пришла в разноцветном шелковом платье, чтобы соответствовать духу Китая. Она верила в феншуй.
Кажется, многие позабыли о том, что накануне праздновали Рождество Христово, которое к китайскому петуху не имеет никакого отношения. Просто продолжали гулять, и мало, кто помнил и думал о Рождестве и святках. Главное – повод.
Была еще дочка Нинки-бухгалтерши – Оксана из отдела туризма и спорта. Она выглядела соблазнительнее остальных. Сан Саныч плясал с обеими. По очереди. Начальнику позволено быть первым. Стол был обильный на закуску и питие. Местный прокурор стрелял глазами в их сторону из-за соседнего столика. Там сидели важные дамы – судьи со следователями. Но их за стол администрации никто не приглашал.
После коньяка и духовой свинины с Сан Санычем внезапно сделалось дурно. Он сильно опьянел и начал ругаться.
– Мать вашу! Мы что празднуем? А? Рождество? Или Новый год? Если рождество, то кто родился? Чьи именины? А? Хочу именинника увидеть, мать вашу! Пусть придет и сядет за стол. Хочу, чтобы меня в моем доме уважали!
– Именинник-то Христос, – робко вставила Ниночка.
– Так подайте сюда Христа! Пировать с ним буду.
Прокурор ринулся успокаивать начальника отдела культуры, но тот не унимался.
Ресторан «Купеческий клуб» находился рядом с администрацией, и с улицы было видно, как гуляют богатые клиенты.
Снова плясали, и снова было плохо Сан Санычу – печень. И как только он оборачивался глазами к окну, то видел прилипшее к стеклу озябшее личико ребенка. Мальчишка был худенько одет и на морозе бледен. Но глаза! Глаза были наполнены такой ангельской чистотой, что Сан Саныч не выдержал.