
Полная версия
Калинов мост
Янине Адамовне хотелось на примере одной из еврейских школ изучть процессы образовательной системы, организацию уроков и сделать соответствующие выводы для выработки предложений. Её встретил директор национальной школы Моисей Ицкович Гейман – бывший учитель хедера, человек преклонного возраста, в традиционной одежде из шерсти и шляпе. По-светски раскланявшись с инспектором из района, он приветствовал её почтительной улыбкой мудрого человека.
– Рады видеть вас, Янина Адамовна! Как добрались?
– Мне не привыкать ездить в глубинку, Моисей Ицкович – работа! А вы, я вижу, неплохо устроились: исправное помещение, чистота, порядок!
– А кто это оценит?
– Не прибедняйтесь, Моисей Ицкович, не прибедняйтесь! – улыбнулась Янина Адамовна, – с вашим-то опытом. А дел очень много. Вам не кажется?
– С какими такими делами пожаловали к нам? – насторожился наставник еврейской молодёжи.
– Хотелось бы глубже понять принципы преподавания в вашей школе, методику, перспективы выпускников при поступлении в техникумы, высшие учебные заведения. Не возражаете?
– Разве у меня есть выбор, Янина Адамовна?
– Выбор есть всегда, товарищ Гейман, нужно знать, когда и как им воспользоваться! Не находите, Моисей Ицкович?
– Ну-да, ну-да! – кивнул меламед. – Принципы нашей школы известны с древнейших времён, и мы их не меняем в отношении учеников.
– Насколько я знаю, у вас в хедере имелись проблемы с языком? Имею в виду, что обучение шло на идиш, а молитвы читались на иврите. Так ли это, что ученики младшей группы, заучивая молитвы на иврите, не всегда понимали их смысл и содержание.
Гейман тяжело вздохнул.
– Вы хорошо осведомлены о наших проблемах, Янина Адамовна! Хедеры закрыты, меламеды запрещены, а ведь они преподавали иврит молодёжи с малолетнего возраста. Трудно, но работаем, – развёл руками иудей.
– Есть ли среди ваших учеников выходцы из мелкобуржуазной среды, сионистских кругов? – осторожно поинтересовалась Акимова.
– Ни боже мой, – воскликнул Гейман, – у нас приличное учреждение, и мы трепетно относимся к нашей репутации.
– Уважаемый Моисей Ицкович, поймите же, что мои вопросы имеют право на жизнь?
У директора опустились плечи.
– Я многое видел в жизни… И желаю нашим детям, чтобы они получали образование в городе, но их семьи не имеют средств на обучение и не принадлежат… Как бы это выразиться?..
– К привилегированному рабочему классу? – усмехнулась Янина Адамовна.
– Я этого не сказал…
– Но подумали?
– Помилуйте, о чём может думать старый еврей?
– Не лукавьте, Моисей Ицкович, если угодно, поясню. В нескольких учебных заведениях национального направления была проведена аттестация студенческой молодёжи, и что вы думаете?
– ?..
– Не осведомлены или…
– Ни то, ни другое… Решение властей принимаю как должное, Янина Адамовна!
– Вот как? – пожала плечами Акимова. – Хорошо, продолжу. В результате проведённой аттестации многие студенты еврейских отделений были отчислены из институтов! Причём, из института учителей для еврейских школ при Белорусском университете. Вам не кажется, что, исходя из реалий сегодняшнего дня, надо внимательней относиться к кандидатам в студенты?
– О, да, конечно, Янина Адамовна, – вдохнул иудей. – Мальчиков всё труднее отдавать в ремесленное производство, торговлю, а кто и работает в этой сфере – задавили налогами. Ох, грехи наши тяжкие.
– Ладно, Моисей Ицкович, согласитесь, что предстоит ещё многое осмыслить! Приглашайте на урок. Не помешаю?
– О чём вы говорите, Янина Адамовна? Что желаете посмотреть?
– Учитывая, что идиш я владею не очень…
– Понимаю! Посетим урок белорусского языка – это здесь!
Директор национальной школы показал на приоткрытую дверь соседней комнаты.
– Уроки белорусской мовы даёт Либа Симоновна. Детям её предмет нравится.
Свыше полутора десятка учеников в широких кепках, расположившись за сколоченными столами, слушали женщину средних лет.
– Продолжайте, продолжайте, – улыбнулась Янина Адамовна, пройдя с директором школы к открытому окну комнатушки.
– Присаживайтесь, товарищи, во втором ряду, – пригласила учительница Акимову и Геймана. – Знаете ли, наши дети не всегда имеют возможность посещать занятия, помогают родителям…
– Ничего, продолжайте, мы с Моисеем Ицковичем послушаем.
Урок продолжался на идиш. Янине Адамовне не составило труда овладеть темой занятий, оценить профессиональную подготовку учителя белорусского языка. Чем дальше учительница вела урок, тем больше нравилась Акимовой. Янина Адамовна обнаружила в ней педагогические навыки в изложении материала, методическую технику, исключавшую непродуктивную трату учебного времени, отведённого на урок.
Понравились ученики. Глазёнки мальчишек 12—13 лет безоговорочно внимали учителю. Янине Адамовне подумалось: «Внимание и послушание учеников не относится ли к одной из 613 заповедей иудеев, которые прививаются в еврейских семьях?». Изношенные рубашонки, рваные штанишки детей вряд ли относили их родителей к мелкобуржуазной среде, где достаток обнаруживался многими вещами.
– Урок скончаны, – объявила учительница, – ці ёсць да мяне пытанні?
Наставница мовы без смущения смотрела на Акимову, прежде всего, имея в виду, возможные вопросы инспектора районного отдела просвещения.
– Отпускайте детей, Либа Симоновна, если есть время, останьтесь минут на десять. Не возражаете, Моисей Ицкович?
– О, чём вы говорите, Янина Адамовна? Присаживайтесь, Либа Симоновна, мы не задержим вас долго.
Акимова развела руками, показывая тем самым, что получила удовольствие от присутствия на уроке белорусского языка.
– Мне понравилось, как подавался материал. Вне сомнения, вы владеете методикой организации коллективной работы: дети слышат вас, внимают, предмет вызывает интерес. Отсюда и обратная связь: выразительное чтение, чёткое написание на доске, внятные ответы обучаемых. Материал темы занятия усвоен. Добавить нечего, Моисей Ицкович, у ваших мальчиков есть шанс выбиться в люди! Как вы считаете?
– Ваши бы слова, уважаемая Янина Адамовна… Еврей тяжело вздохнул. – Спасибо.
– Не прикидывайтесь, товарищ Гейман – веселей, кому сейчас легко, скажите мне?
– Да-да, понимаю!
– у меня остались хорошие впечатления. Спасибо и счастливо оставаться! Провожать не надо!
Янина Адамовна пошла в клуб. Там уже под руководством Стаса Бурачёнка собирались члены комсомольской организации – ребята и девчата от четырнадцати лет и до возраста молодых людей, имеющих семьи. Тянулись любопытствующие, желающие поучаствовать в работе комсомольцев, приглядывались, оценивали.
Янина Адамовна, не теряя времени на лузганье семечек, решительным образом переломила подсознание четырёх десятков слушателей в нужном направлении.
– Добрый вечер, молодые люди! С кем не знакомы, представляюсь – инструктор отдела районного просвещения Акимова Янина Адамовна. Прошу любить и жаловать! Какие будут предложения по языку общения?
– Давайте на русском! – откликнулись из задних рядов, – мы поступаем в ветеринарный институт – пригодится.
– Возражений нет, товарищи?
– Давайте на всех языках!
– Принимается!
Акимова вышла к трибуне. Из мутного графина плеснула в стакан воды и обратилась к молодёжи.
– Таварышы! Перш за ўсё я хачу, каб усе зразумелі сутнасць ўтрымання палітыкі беларусізацыі, і чаму яна праводзіцца ў нас у рэспубліцы з улікам нацыянальнай спецыфікі. Змест палітыкі беларусізацыі разглядаецца ЦК КП (б) БССР у комплексе мерапрыемстваў, якія развіваюць і распаўсюджваюць беларускую мову, культуру ў рамках рэспублікі, ствараюць нацыянальную сістэму адукацыі, дзе вялікае значэнне надаецца побыце, традыцыям, самабытнасці беларускага народа. Не сакрэт, што праца па гэтых напрамках дзейнасці спрыяюць вылучэнню прадстаўнікоў беларускай нацыянальнасці на партыйную, савецкую, прафсаюзную і грамадскую працу. Заўважу, таварышы, што галоўнымі пытаннямі ліпеньскага (1924) і студзеньскага (1925) пленумаў ЦК КП (б) Б былі чарговыя задачы і мерапрыемствы ў нацыянальнай палітыцы. Быў падтрыманы дэвіз «Уся КП (б) Б павінна гаварыць на беларускай мове». Або ёсць іншыя думкі, таварышы?
По залу прошёлся шумок, который, на деле не оставил молодёжь равнодушной к заявлению Янины Адамовны в области развития белорусской темы. «Не резко ли начала, сразу в карьер? – подумалось Акимовой, – а, может, и к лучшему». Выступавший в райкоме партии на 1 Мая товарищ из ЦК республики недвусмысленно заявил: «Политику партии и правительства, товарищи, необходимо проводить в массы смело и решительно. В этом вопросе нет места мелкобуржуазной либеральности».
– Определённо согласен! – улыбнулся подросток.
– Далее, молодой человек, Советы образованы по национально-территориальному признаку с учётом интересов основных национальностей, проживающих на территории БССР. Причём, обратите внимание, большинство белорусов живёт в сельской местности и разговаривает на белорусской мове. Русские и евреи, в силу известных причин, проживают в городах и местечках, общаясь на русском языке. Данный факт учитывается положением о национальных советах и уравнивает права всех слоёв населения республики. Выгодно ли такое положение дел с точки зрения развития белорусской государственности? Не задавались таким вопросом?
– Об этом надо спросить Беню Соломенского, – выкрикнул кто-то из зала.
– Беню! – загалдела молодёжь! – Сюда его! Спросим!
– Стоп, стоп! – подняла руку Акимова, – эмоции – не лучший союзник отрадных дел комсомольской организации. Придёт время – спросим и с Соломенского! Сейчас важно вооружиться ленинскими идеями и решениями XIV съезда ВКП (б) об индустриализации, которые развиты постановлениями XV конференции ВКП (б) и пленумов Центрального Комитета! Генеральная линия партии на индустриализацию страны осуществляется курсом экономического строительства. И нам с вами, товарищи, необходимо работать, так, чтобы СССР из страны, ввозящей машины и оборудование из-за межи, превратилась в страну, производящую их. В обстановке капиталистического окружения важно не допустить превращения СССР в экономический придаток капиталистического мирового хозяйства, а наоборот – представить его самостоятельной экономической единицей, строящей социализм! Понимаете, товарищи?
Зал молчал. Слышно было, как механик закладывал в аппарат бобину с лентой. После лекции предполагался просмотр художественного фильма. «Сороку-воровку», «Поликушу», «Герасима и Му-му», «Падение династии Романовых» в посёлке уже «крутили». Культурную жизнь глубинки Придвинья Акимова знала не по наслышке, её поразили фильмы: «Броненосец Потемкин», «Мать», «Конец Санкт-Петербурга», «Шинель», «С.В.Д.», другие. Сын Вацлав ездил в центр, чтобы там, поругавшись с кинематографическим начальством, выбить новую ленту.
– Подводя первые итоги индустриализации, – продолжала Акимова, – партия отметила достижение показателей довоенного уровня в промышленности. Обновляются основные фонды социалистической индустрии, имеются значительные успехи в электрификации, создании новых отраслей промышленности, в том числе машиностроения, авиапромышленности, химической индустрии. Вот что главное, товарищи комсомольцы и беспартийные! А с Бени спросим! И последнее к вышесказанному: практика показала, что политическая, хозяйственная, культурная жизнь на территории национальных советов развивается быстрее, чем в других территориальных образованиях. Вот вам и роль национальных общин, реализующих государственную политику в положительной динамике. Таким образом, дорогой товарищ, государство относится ко всем национальностям и языковым культурам в республике, равнозначно уважительно и ваши сомнения на этот счёт не имеют никаких оснований. Удовлетворены ответом?
– Ну, гэта так!
Острый вопрос комсомольца еврейской национальности исходил из его специфики. Перегибы в решении II сессии ЦИК БССР ощущали не только работники райкома и окружкома. Острая тема обсуждалась рабочими, крестьянами, союзной молодёжью. Янина Адамовна понимала, что политика белорусизации способствовала росту национального самосознания основной этнической группы – белорусов, подчёркивала её значимость. Вместе с тем, вызывала сопротивление и недовольство остального населения республики. Особенно чувствительны к новой ситуации оказались квалифицированные рабочие, служащие, интеллигенция из числа еврейского населения. Ей, инструктору райкома партии в проведении политики государства на массы, приходилось изыскивать аргументы, чтобы не снискать себе славы «неподкованного» коммуниста, что обязательно бы отразилось на ей самой и хуже того – муже, партийном руководителе района.
– Вы, як разумею, прадстаўнік яўрэйскай абшчыны і бачыце ў гэтым рашэнні аднабокае становішча рэчаў і зрушэнне акцэнтаў на асноўную – беларускую нацыянальнасць у рэспубліцы… Гэта так?
– Гэта так! У нашай камсамольскай ячэйцы палова членаў яўрэйскай нацыянальнасці! У гэтым няма нічога асаблівага!
– Сапраўды, у гэтым няма нічога асаблівага! Хіба на гербе БССР ня накрэсьлены лозунг «Пралетарыі ўсіх краін, яднайцеся!» на ідыш, разам з беларускай, польскай і рускай мовамі? – прищурившись, спросила Янина Адамовна.
– Очень благодарен вам за развёрнутый ответ, товарищ Акимова, и всё же по своему вопросу я бы уточнил. Есть очевидные факты, свидетельствующие об использовании еврейского и польского языков в ущерб делопроизводству и заключается оно в неисполнении служащими обращений сельчан.
– Например? – вскинула брови Янина Адамовна.
– Пожалуйста, заявления в сельский совет на идиш и польском языках не принимаются их работниками, бюрократы требуют написания на русском…
– О чём речь? – воскликнула Акимова, – считаю своим долгом проинформировать первого секретаря райкома партии о недопустимости таких явлений. Разберёмся, товарищ, как вас?..
– Эпп, Янина Адамовна! Арон Эпп!
– Хорошо, товарищ Эпп! Мы уже говорили об этом! В БССР все языки равноправные! Не сомневаюсь, что данный вопрос будет изучен оперуполномоченным районного отдела ГПУ. С фактами проявления языкового бескультурья мириться не будем, тем более по данной теме есть циркуляр, предписывающий порядок её исполнения. Ещё вопросы, товарищи?
Янина Адамовна отпила из стакана прогорклой воды и, обведя взглядом зал, спросила:
– Пожалуйста, товарищи!
– Можно? – пискнул девичий голосок.
– Можно, если осторожно! Представьтесь!
– Оксана Пашкевич! – звоним голосом назвалась дивчинка в сарафанчике в горошек.
– Слушаю, Оксана!
– Хочет в комсомол вступить, Янина Адамовна, – шепнул Бурачёнок!
– Неужели? Сколько ей лет?
– Скоро четырнадцать.
– Не наушничай, Стас – не честно! – взвилась девчонка. – Вы его не слушайте, товарищ Акимова, осенью я поставила льна больше, чем он, вот и взъелся Бурачёнок на меня!
– Чего несёшь? – рассердился Стас. – Исполнится четырнадцать лет – рассмотрим заявление в ячейке.
– Тише-тише, ребята! – примирительно подняла руку Янина Адамовна, – надо поддержать активную позицию Оксаны в её стремлении вступить в организацию союзной молодёжи. Но имей в виду, Оксана, возраст для вступления в комсомол определён уставом организации, и к этому шагу надо готовиться, изучать документы. В данном случае, Бурачёнок не причём, он прав!
– Причём-причём, Янина Адамовна! Я знаю документы, решения съездов, конференций, а он считает малой меня!
– Хорошо-хорошо! Ответь тогда: на каком мероприятии и когда был создан Российский Коммунистический Союз Молодёжи?
Девушка звонким голосом выдала: Российский Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи был создан на I Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодёжи, который прошёл в Москве с 29 октября по 4 ноября 1918 года.
– О-о-о, Стас, все ли комсомольцы знают об этом? – улыбнулась Янина Адамовна.
Комсомольский вожак пожал плечами.
– Мои знают!
– Ну-у-у, посмотрим. Ещё вопрос, Оксана: как с марта текущего года называется комсомольская организация Советского Союза?
Вопрос не смутил боевую дивчинку.
– В связи с образованием в 1922 году Союза Советских Социалистических Республик, в марте текущего года, Российский Ленинский коммунистический союз молодёжи переименован во Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодёжи – ВЛКСМ.
В зале зааплодировали, послышались крики: «Знай наших!».
– Девочка мне нравится, товарищи! – восхитилась Акимова, – зададим ей последний вопрос, не возражаешь, Оксана?
– Задавайте, товарищ Акимова! – согласилась будущая боевая единица комсомола.
– В чём, на твой взгляд, заключается роль Владимира Ильича Ленина в жизни комсомольской организации?
Девочку ничто не могло остановить.
– В 1920 году Владимир Ильич Ленин принял участие в работе III съезда РКСМ, – бойко начала Оксана, – там он выступил с программной речью «Задачи союзов молодёжи». Они же стали основными направлениями в работе комсомольцев страны. На съезде были приняты новая программа и Устав РКСМ, в Уставе сформулирован принцип демократического централизма, а также…
– Достаточно, моя хорошая, достаточно! – Акимова остановила отличницу. – Мне нечего добавить! Умница! Думается, Стас, что бюро поступит правильно, если рассмотрит кандидатуру Оксаны Пашкевич на предмет приёма в ячейку с условием, что юридически её членство в организации начнётся по исполнении четырнадцати лет. В этом случае нет оснований квалифицировать факт нарушения устава ВЛКСМ. Принимается?
– Фу, как гора с плеч, Янина Адамовна, я уж не знал, что и делать с этой пигалицей!
– Стас, ответишь мне! – вскинулась девчушка.
Зал гудел, обсуждая значение комсомольской организации посёлка. Оказывается, сам Ильич, оценив возможности комсомола в строительстве социалистического будущего, определил цели и задачи на десятилетия вперёд! Известие вызвало духовный подъем у молодёжи, изголодавшейся по событиям в стране! Газеты, журналы, брошюры, другая печатная продукция, к сожалению, не обеспечивали население информацией. Лозунги, девизы, речёвки – предостаточно! Однако новость о том, что уже, месяц, как в Советском Союзе строился Днепрогэс, комсомольцы посёлка Марченки не знали. Поэтому их заявления с текстом: «Прошу направить на Днепрогэс… Готов выполнить любое задание Коммунистической Партии и Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи», – они будут писать позднее.
О подготовке переписи населения в стране, завершении подготовки строительства тракторного завода в Сталинграде, смерти Дмитрия Андреевича Фурманова они так же узнали от инспектора райкома партии Янины Адамовны Акимовой. На встречах с людьми Янина обсуждала литературные новинки, журнальные и газетные статьи, которые, зачастую, носили нетерпимый, политизированный характер. Уделяла внимание классическому наследию, тяготевшему к национальной специфике. Поддерживала принципы нового литературного объединения «Узвышша», основателями которого были Бабарэка, Бядуля, Глебка, Дубовка, Крапива, Лужанин, Чёрный.
Выступлениями она сглаживала острые углы авторских обсуждений вопросов быта, культуры, моды, кинематографии. Приближая слушателей к знаниям в гуманитарной сфере, пониманию процессов политической и социальной жизни страны, она читала им лекции о месте женщины в социалистическом обществе, её положении в семье. Не уходила от обсуждения вопросов конфессиональной направленности, которые имели серьёзное значение для жителей района. В Городке проживало свыше сорока процентов иудеев, объединённых общинами, католики, православные, мусульмане… Глубинка БССР развивалась!
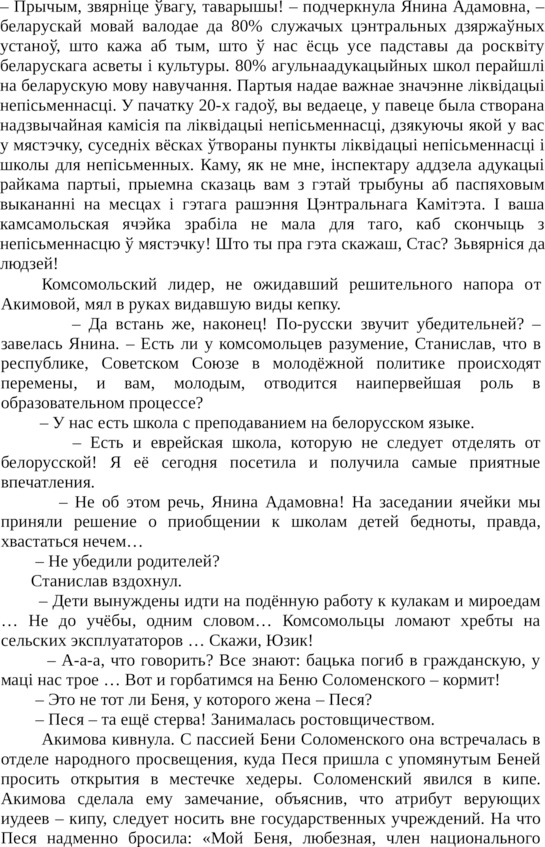
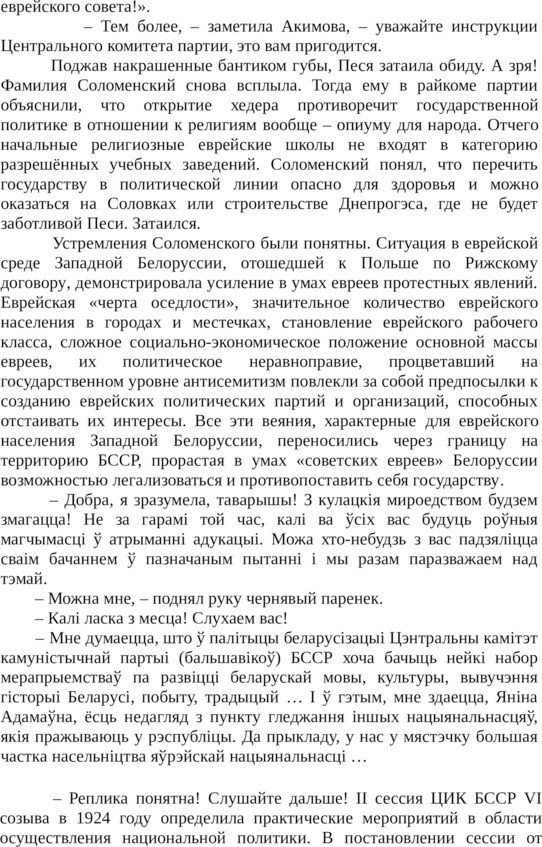
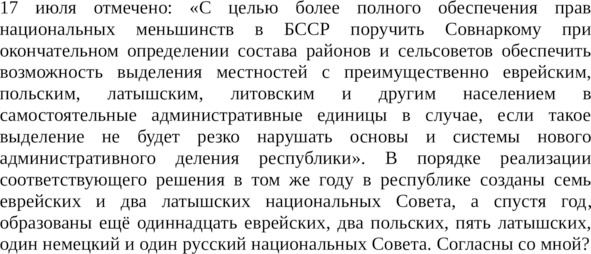
Глава 7
Проводив Акимова в район, Рыжов присел на диван. Давило сердце, ныли суставы, застуженные зимой 1914 года в боях с австрийцами за перевалы в Карпатах. Ранения, возраст за шестьдесят давали знать бессонными ночами, требуя внимания врачей. «Некогда! Потом! Закончу с делами и схожу к докторам, – каждый раз обманывал себя Иван Павлович, отодвигая здоровье на потом!
Вчера он был в Минске на расширенном заседании бюро ЦК КП (б) БССР. 1-й секретарь ЦК КП (б) БССР Криницкий Александр Иванович вынес на обсуждение вопросы текущего момента, административного устройства БССР, сворачивания политики НЭПа, безопасности границ с Польшей в связи с захватом власти Юзефом Пилсудским, посевной страды и другие не менее важные в разделе «разное».
– Это ж надо случиться! Государственный переворот в Польше! – сетовал председатель постоянной комиссии БССР по сельскому хозяйству.
Рыжов не помнил его фамилии, но сам, будучи человеком многоопытным, сдержался от комментариев в адрес антисоветчика Пилсудского.
– Жди теперь из Западной Белоруссии провокаций, – не унимался разговорчивый «сельхозник»…
Участники расширенного бюро ЦК не поддержали реплик специалиста по сельскому хозяйству, ожидая в тревоге приглашения в кабинет руководителя республики. Обстановку разрядила секретарь Криницкого – женщина средних лет, в прямом строгом платье, не подчёркивающим женские формы, объявив участникам заседания:
– Прошу, товарищи, шляпы сюда, – указала на вешалку женщина, – Александр Иванович ждёт.
Одноликая масса руководителей разных уровней и направлений в широких пиджаках и брюках, рубашках без воротников, повязанных поясками, парусиновых туфлях двинулась в кабинет руководителя БССР. За огромным Т – образным столом, накрытым зелёным сукном, сидел 1-й секретарь ЦК КП (б) БССР Криницкий. Не из местных, как и Иван Павлович Рыжов, назначенец из Москвы. Человек тридцати двух лет, молодой, с шевелюрой зачёсанных назад волос, тонкими усиками. В 1924 году на этом посту он сменил Александра Николаевича Асаткина-Владимирского и уже полтора года руководил партийной организацией республики. Зарекомендовал себя человеком энергичным, решительным. В короткие сроки разобрался с особенностями белорусского территориального образования, частенько выезжал на места, изучал вопросы землепользования, сдачу земли в аренду, наёмный труд, развитие кооперации. Вникал в вопросы промышленного производства, наличия оборудования, специалистов, оценивал итоги новой экономической политики. Стремился поднять промышленность, сельское хозяйство. Успехи были налицо.
Имелись, правда, вопросы, которые тревожили Александра Ивановича. Они исходили из Москвы, откуда пристально наблюдали за его деятельностью в БССР и время от времени направляли в республику, как объясняли ему из Кремля, партийные кадры проверенных коммунистов – на усиление. Новых людей он вынужден был расставлять на ответственные посты без знания их деловых качеств, организаторских способностей. Они оседали на высоких должностях в ЦК, правительстве, обрастали «своими» людьми, которых истребовали с мест предыдущей деятельности и эффективно информировали Москву по направлениям деятельности.
Эти люди исподволь, за спиной 1-го секретаря ЦК КП (б) БССР, формировали политику, подходы в решении стратегических вопросов, поставляя наверх информацию, выгодную им самим, либо таковую, какую её желали видеть в ЦК ВКП (б) и Кремле. Если что-то выпадало из привычного образа жизни, из наркоматов наезжали комиссии ответственных товарищей с внушительными портфелями, которые, не особенно церемонясь, убирали, ссылали, садили, назначали, создавая в республике нервозную обстановку. Волна наездов из Москвы слухами, домыслами, достигала глубинки, обрастая подробностями, от которых у районного начальства заворачивались воротники.
Сам человек пришлый, тверской, Криницкий прошёл ответственные посты во Владимирском, Саратовском, Московском, Омском, Донецком губернских комитетах РКП (б). Был членом ЦК КП (б) Украины и одновременно кандидатом в члены ЦК РКП (б) – ВКП (б). Он прекрасно понимал, что усиление белорусской партийной организации сверху из Кремля по ключевым партийным постам, отраслям народного хозяйства – воля «Хозяина», Генерального секретаря ЦК ВКП (б).
Кадры решают всё! Звучало весомо! Поставленные цели достигалисьвысоким качеством управлениявустойчивом режиме! Товарищ Сталин внимательно следил за общественно-политическими процессами в республике и контролировал их, направляя на руководящую работу партийные, советские и хозяйственные кадры. Этот принцип Александр Иванович усвоил хорошо и надолго!
Собирая бюро ЦК для решения вопросов, которые держались на контроле Москвой, ему хотелось через заместителей и первых секретарей на местах убедиться в правильности выбранного им курса по их решению. Криницкий знал: едва закончится бюро, как его окружение кинется к телефонам информировать Москву о принятых постановлениях по всему спектру рассмотренных тем заседания. Последующий затем его доклад Генеральному секретарю ЦК партии будет прерываться уточняющими моментами с полным знанием дела. Товарищ Сталин знал обо всём, что происходило в республике!



