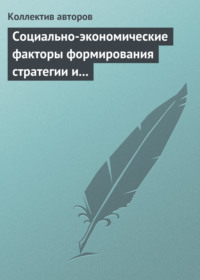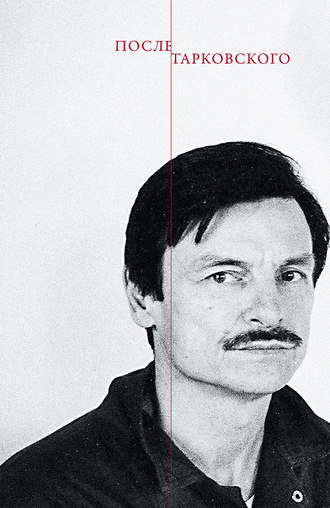
Полная версия
После Тарковского
Это то, почему здесь было не обойтись без упоминания механизма фотогении. Изумительная визуальная взыскательность Тарковского к малейшим мелочам, составляющим кадр, казалось бы, означает тотальный режиссерский диктат, столь нелюбезный послевоенной теории; на деле же она ничуть не противоречит тому догмату доверия, о котором шла речь. Дело в том, что фотогения – по определению, которое в свое время дал еще Деллюк, главный ее теоретик, – заключается в том, что, когда мы видим тот или иной предмет, называя его фотогеническим, мы вчитываем в него множественность вариантов развития. В тот момент, когда вещь недоопределена, недосовершена, когда она находится еще в процессе становления, мы гадаем (это происходит рефлекторно), в какую сторону пойдут эта недопроявленная мимика актера, недообозначенный жест, недоартикулированная интонация. Именно эта множественность вариантов и создает в нас, зрителях, ответную реакцию и специфическую плотность ощущения происходящего на экране. В этом смысле рассказанная Евгением Цымбалом история про вырывание цветов на площадке «Сталкера»[6]очень симптоматична. Ведь в некотором смысле цветок – это итог, финал, предъявленная данность, факт, который именно потому оказывается нефотогеничен – в отличие от еще только завязи, еще только зелени, которая может стать чем угодно. И потенциал, скрытый в ней, мы видим как изобразительный, читаем как сюжетный, а ощущаем, воспринимаем как смысловой.
Иными словами, с практической точки зрения разница между модернистами и большинством их нынешних последователей, пусть даже вполне искренних в своем эпигонстве, заключается в том, что первые – будь то Тарковский, Кубрик или Антониони – несмотря на принципиальную, прокламируемую неуверенность в тех смыслах, которые они намереваются вложить в фильм, чрезвычайно заботятся о том, чтобы реальность на экране была как можно кинематографичнее. Все эти художники производят отбор тех объектов окружающего мира, которые еще не «свершились», которые все еще чреваты дальнейшим развитием, и если мы отбираем только такие сюжеты, только такие объекты, только такие локации, то кадр оказывается сверхплотным; это не то чтобы «компенсирует» скуку от избыточной длины плана, но, напротив, делает эту длину, во всех значениях слова, осмысленной. Тогда как боязнь любого высказывания в современном постмодернистском кино связана именно с тем, что художники – против любого здравого смысла – доверяют реальности больше, чем кинокамере, и не видят связи между осмысленностью первой и устройством второй. Попросту говоря, им свойственно то самое презрение к структурной обоснованности формы, которое как бы оправдано неприятием режиссерского диктата, а на деле же ведет к использованию негодного инструментария для создания художественного мира. Потому что, в конце концов, длинный план – кем бы он ни использовался, – если он используется по существу, является способом выяснить фотогению окружающего мира. То есть выяснить, есть ли у него шанс на продолжение.
Алексей Гусев – киновед, кинокритик, режиссер театра и кино. Преподаватель Санкт-Петербургского института кино и телевидения.
Тарковский после Тарковского. (Кино после пленки)
Джей Хоберман
Перевод с английского Андрея Карташова
Доклад посвящен кинематографу и теории Андрея Тарковского, его посмертному влиянию на амбициозных режиссеров за пределами России, включая Белу Тарра и Ларса фон Триера, и релевантности его философии для постцифрового кино.
Допустим, мы согласны с тем, что Андрей Тарковский был модернистом, но какой модернизм он воплощал? Тарковский не был наивным модернистом, как Д. У. Гриффит. Он не был представителем той традиции советского модернизма, которая связана с именами Эйзенштейна и Вертова, хотя, как и они, он был теоретиком кино. Не был он и популярным модернистом, как коммерческие режисеры наподобие Альфреда Хичкока и Стэнли Кубрика, действовавшие сразу на двух уровнях – для массовой аудитории и для гипотетической интеллигенции от кинематографа. Тарковский не является и постмодернистом, как его современники Жан-Люк Годар и Душан Макавеев, изобретатели кинематографа радикально неправильного и бескомпромиссно антиклассического.
Можно было бы провести параллели между Тарковским и его коллегами из других стран социалистического лагеря, а именно Миклошем Янчо и Анджеем Вайдой, но мне кажется более продуктивным связать модернизм Тарковского с такими уникальными и маргинальными фигурами, как немецкий режиссер Ганс-Юрген Зиберберг и американский авангардист Стэн Брэкидж: пророками от кинематографа, видящими свое искусство (и искусство вообще) как квазирелигиозное призвание, а себя – как племенных шаманов. «Лес, описанный в японской книге, не имеет ничего общего с сицилийским или сибирским лесом, – сказал однажды Тарковский. – Я не могу увидеть лес теми же глазами, что автор или его соотечественники».
Как и Брэкидж с Зибербергом, Тарковский был в равной мере консерватором и авангардистом. Зиберберг или Брэкидж могли бы, подобно Тарковскому, сказать, что «кино так же достойно защиты законами, как окружающая среда». Что это значит? Хочет ли он защитить сам медиум или принцип художественного творчества?
На взгляд внешнего наблюдателя, значимость Тарковского для российских режиссеров очевидна. Я имею в виду Алексея Германа, Александра Сокурова и Андрея Звягинцева. За пределами России он стал источником влияния и примером для двух режиссеров из числа самых значительных европейских постановщиков после 1960-х годов – Ларса фон Триера и Белы Тарра. Фон Триер начинал с прямой имитации Тарковского в своих террариумных мизансценах; Тарр перешел от подражания Джону Кассаветису к подражанию Тарковскому. Тем не менее оба режиссера через влияние Тарковского вышли к созданию сильных, оригинальных картин.
Кажется, ясно, что для них Тарковский воплощает идею героического художника от кино – ту идею, которую, наверное, воплощал для предыдущего поколения Карл-Теодор Дрейер. Даже у нас в Америке есть подражатели Тарковского. Терренс Малик, наверное, – самый очевидный пример, но можно вспомнить, что периодически независимый режиссер Стивен Содерберг сделал ремейк «Соляриса», а всегда независимый Джим Джармуш создал шедевр, который можно было бы назвать тарковскианским вестерном, – «Мертвец».
Если мы принимаем утверждение (я его принимаю), что цифровой поворот, произошедший примерно тогда же, когда кинематограф праздновал свое столетие, глубоко изменил природу кино, то можно сказать, что Тарковский за десятилетия, прошедшие после его смерти, приобрел статус последнего мастера пленочных фильмов – хотя, если судить по видеоролику, который мы сейчас посмотрим, он вряд ли стал бы противником цифровой обработки изображения.
Это последний кадр «Ностальгии» – первого фильма Тарковского, сделанного за пределами его родины, в котором это обстоятельство становится главным предметом. Этот план можно трактовать по-разному, но мне кажется, что Тарковский здесь повторно подчеркивает устремление фильма замкнуть время и пространство на само себя, найти дом во вселенной кинематографа. Я не знаю в точности, как он снял этот план, но достаточно сказать, что сейчас это было бы гораздо проще сделать при помощи компьютерной генерации изображения (CGI).
Вскоре после Второй мировой войны французский кинокритик Андре Базен предложил свою концепцию в противовес актуальной тогда идее о том, что кино развивается благодаря духу научного исследования. Базен представил кино как идеалистический феномен, его производство – как предприятие с изначально иррациональной мотивацией, как навязчивое желание найти ту полную репрезентацию, которую он назвал тотальным кино.
«Не было такого изобретателя, который не стремился бы сочетать звук и объем с движущимся изображением», – писал Базен. Каждое технологическое нововведение – синхронный звук, цвет, стереоскопическое (3D) кино, технология Smell-O-Vision – служит тому, чтобы приблизить кино к его воображаемой сущности. Иными словами, «кино еще не изобретено!» Более того, как только подлинное кино будет создано, сам медиум перестанет существовать – как государство при коммунизме!
Базен считал, что это произойдет уже к 2000 году. На деле случилось нечто другое: развитие CGI разрушило особенные отношения, существовавшие между фотографией и миром. Миф тотального кино[7] – «воссоздание мира по его же подобию» – для Базена был элементом сущности кино: неотъемлемый реализм медиума был обеспечен беспристрастным взглядом камеры, а также химической реакцией, благодаря которой свет оставлял след на фотографической эмульсии. В эссе «Онтология фотографического образа», опубликованном в 1945 году, он отмечал:
«Фотография воздействует на нас, как естественный феномен. ‹…› Существование [сфотографированного предмета] зависит от существования модели».
Из-за онтологической связи между фотографией и объектом съемки кинематограф производил почти автоматическое изображение, не нагруженное художественной интерпретацией. Как тень или след от пули, фотография была формой доказательства, факта. Более того, каждая фотография была производной от собственного материального свидетельства в виде негатива – результата фотохимической реакции. Негативы можно было изменить, кадрировать во время печати или даже уничтожить, но – по крайней мере, в самом начале своего существования – изображение было физической единицей, в отличие от бесконечно гибкого бинарного кода, пусть и произведенного индексальным способом при помощи цифровой камеры.
В то время как подверженная цифровой манипуляции фотография заменила природу в качестве исходного материала для производства изображений, кризис в кинематографе оказался еще более сущностным. Базен представлял кино как объективное «воссоздание мира». Однако в производстве цифрового изображения мир, да хотя бы просто существующий предмет, помещенный перед камерой, перестает быть необходимым, не говоря уже о самой камере. Фотография, если не само желание производить движущиеся изображения, оказалась вытеснена. Чаплин стал примечанием к Микки Маусу, и тем же стали «Рождение нации» и «Броненосец „Потемкин“» по отношению к «Истории игрушек 3». С появлением CGI история кино стала историей анимации.
Не думаю, что это бы расстроило Тарковского, все-таки относившегося к числу художников, для которых изображения были самоценны: в одном интервью он сказал, что его образы значат не больше, чем то, что в них можно увидеть; слова он, что удивительно для сына поэта, охарактеризовал как «шум, производимый человеком». В своем гиперреализме некоторые фильмы Тарковского, в особенности «Сталкер» и «Ностальгия», – не только кинематографические произведения, но и виртуальные вселенные, хотя, как описывает «Миф тотального кино» Базена, здесь всегда есть чувство того, что сам мир пытается прорваться сквозь экран.
Сущность постфотографического кино можно обнаружить у Тарковского в понятии «запечатленного времени». Говоря о значении первых кинохроник Люмьеров в своей одноименной книге, он пишет:
«Впервые в истории искусства, впервые в истории культуры человек нашел способ непосредственно запечатлеть время. И одновременно – возможность сколько угодно раз воспроизвести это время на экране, повторить его, вернуться к нему. Человек получил матрицу реального времени. Увиденное и зафиксированное время смогло теперь быть сохраненным в металлических коробках надолго (теоретически – бесконечно). ‹…› Время, запечатленное в своих фактических формах и проявлениях, – вот в чем заключается главная идея кинематографа как искусства».
Недавнюю иллюстрацию этой идеи мы можем обнаружить в инсталляции Кристиана Марклея «Часы» (2010) – цифровом видео, собранном из фрагментов фотографических (снятых на пленку) кинокартин: поминутно фиксируя время хронологически смонтированными кадрами из фильмов, оно служит круглосуточным, синхронизируемым с реальным течением времени хронометром. В Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и любом другом месте «Часы» демонстрируют мысль Тарковского, хотя и в упрощенном виде, заставляя зрителей завороженно наблюдать за ходом времени.
Тарковский не пишет о фотографии как таковой, но в «Запечатленном времени» он замечает, что «кино ‹…› родилось, как способ зафиксировать само движение (выделено мной. – Дж. Х.) реальности» – что отличается от простой фиксации реальности. Мы можем обнаружить это в фильмах тех художников, чей способ работы с цифровой технологией подчеркивает реальное время и длительность, делает, так сказать, кинематографический медиум в еще большей степени собой; в их числе – «Русский ковчег» Александра Сокурова.
«Русский ковчег» – фильм, представляющий собой путешествие по Эрмитажу в одном 95-минутном срежиссированном движении, – вошел в историю благодаря сразу нескольким достижениям: это первый полнометражный фильм, снятый без монтажа единым планом; самая длинная сцена, снятая на Steadicam; первый фильм, записанный в несжатом видео высокого разрешения на мобильный жесткий диск. Тем не менее некоторые теоретики называли его антикинематографическим.
Отметив, что «информация, собранная при помощи цифровых технологий, онтологически не отличается от синтезированной цифровым путем продукции, которая составляет виртуальные миры», американский теоретик Дэвид Родовик утверждает, что достоверное наблюдение абсолютной, непосредственной длительности более невозможно. Кроме того, он замечает, что «Русский ковчег» подвергся значительной обработке на постпродакшне. В некоторых моментах изображение было кадрировано, чтобы удалить нежелательные объекты, подогнана скорость движения камеры, изменено освещение, скорректированы цветовые температуры. В одной из сцен имитируется съемка широкоугольным объективом, а в финале мы видим отрисованные на компьютере снежный буран и туман.
Можно сказать, что, как и последний кадр «Ностальгии», «Русский ковчег» представляет собой анимационный фильм, созданный из фотографического материала. «Фильмический объект» Сокурова, созданный цифровым способом, разрушает оппозицию постановочного вымысла и документальной правды. Режиссер вызвал к жизни нечто и заставил это произойти в реальности. Этот фильм – базенианский в перформативном аспекте, то есть в режиссировании соединения камеры и события, происходящего перед камерой.
Хотя «Русский ковчег» можно трактовать как консервированный театр, Сокуров использовал цифровую технологию для производства того, что является квинтэссенцией кино. Единственный план «Русского ковчега» Тарковский назвал бы «запечатленным временем», хотя он и использует ресурсы постфотографической технологии – для того чтобы ввести кинематограф в двери, открытые «Ностальгией».
Джей Хоберман – кинокритик, автор двенадцати книг, преподаватель истории кино в Университете Нью-Йорка и Гарвардском университете.
От Тарковского к Нолану через Содерберга
Василий Степанов
В 2002 году в мировой прокат вышел фильм «Солярис» Стивена Содерберга. Станислав Лем предположил, что Содерберг снял не экранизацию романа, а фильм по мотивам ленты Тарковского. Так же восприняли фильм и критики.
Некоторые кадры и сцены фильма Содерберга позволяют предположить, что он выстраивает диалог не только с «Солярисом» Тарковского, но и с «Космической одиссеей» Кубрика. Неизвестно, читал ли Содерберг «Мартиролог», в котором Тарковский негативно высказывается о фильме, или он сумел разглядеть следы борьбы Тарковского с Кубриком именно в самом кинематографическом устройстве «Соляриса». Создание второй экранизации романа Станислава Лема стало для Стивена Содерберга своего рода лабораторной работой, ведь он не только режиссер, но и теоретик, известный своими алхимическими монтажными опытами последних лет – в их числе и сокращение «Космической одиссеи». В своем «Солярисе» он впускает Тарковского в пространство Кубрика, прививает Кубрику Тарковского. И более того – вводит Тарковского в мир американского фантастического фильма. Не благодаря ли Содербергу другой картиной последнего времени, неожиданно сближающей Кубрика и Тарковского в их заочном споре, стал нашумевший «Интерстеллар» Кристофера Нолана?
В конце 2002 года на киноэкраны США, а затем в 2003 году и на экраны всего мира, включая Россию, выходит экранизация романа Станислава Лема «Солярис», снятая режиссером Стивеном Содербергом. В титрах – указание на то, что фильм снят по роману, но ни один из критиков по понятным причинам не отказывает себе в удовольствии ввернуть в рецензию замечание о том, что режиссер снял свою версию шедевра Тарковского. Некоторые (особенно отчаянные) пишут, что Стивен Содерберг снял ремейк классического фильма. Особенно усердствует российская критика: в глазах наших соотечественников вину американца усугубляет тот факт, что с момента выхода картины Тарковского прошло ровно тридцать лет. По конспирологической привычке некоторые видят в этом злой умысел: новый «Солярис» кажется подрывной акцией к юбилею.
Можно долго перечислять, что именно вменялось в вину американскому режиссеру, но мне, прежде всего, хотелось бы отметить то, что критики особенно остро реагировали на детали и мелочи, не утруждая себя комплексным анализом фильмов. Скажем, болезненно было воспринято превращение позитивиста и научного сухаря Сарториуса в чернокожую женщину по фамилии Гордон, которое трактовалось как проявление превратно понятой политкорректности. Призраки идеологии в кинематографе российскую прессу 2000-х годов еще смешили. За всем этим смехом мало кто дал себе труд заглянуть в роман Лема. Иначе оппоненты Содерберга со всей ясностью осознали бы, что Тарковский отступил от буквы романа не меньше американца. Доктор Гибарян, например, стал у Тарковского армянином, хотя едва ли Лем закладывал именно такую национальную характеристику. «Гостья» Гибаряна у Тарковского – тонкая русоволосая девушка с колокольчиком. А в романе к нему приходит «огромная негритянка в желтоватой, словно сплетенной из соломы, набедренной повязке». Впрочем, цель этого доклада не сводится к удивлению странными выводами и акцентами рецензентов, посмотревших фильмы Тарковского и Содерберга. Всех, кто хочет подробнее познакомиться с историей экранизаций романа Станислава Лема, я хотел бы адресовать к докладу Юлии Анохиной «Солярис: до и после Тарковского», прочитанному на одной из прошлых конференций, посвященных кинематографу Андрея Тарковского. В нем очень детально анализируется история экранизаций и постановок «Соляриса»: от Ниренбурга до Содерберга[8].
Для меня связь фильма Стивена Содерберга с экранизацией Андрея Тарковского несомненна. Но вопрос, почему он так настойчиво оберегает себя титром «По роману Станислава Лема», кажется принципиально важным. Что нужно знать о Содерберге? Во-первых, этот режиссер – не копировщик и не ловец чужой славы. Его карьера началась в самом конце 1980-х годов, когда вышел его дебютный фильм «Секс, ложь и видео», очень успешно показанный на фестивале Sundance и затем получивший «Золотую ветвь» в Каннах. Это во многом дало старт новейшей истории Каннского фестиваля, в следующем десятилетии превратившегося в смотр, диктующий свои правила всему миру, единолично пишущий историю кино и поставляющий киноиндустрии самых актуальных авторов. Отсюда начнется и возвышение американского независимого кинематографа, одним из апостолов которого станет Содерберг. После каннского приза перед этим молодым режиссером, которому нет еще и тридцати, встанет вопрос «что дальше?». Все вершины покорены, горизонты достигнуты – следующие несколько фильмов, отчаянно неформатных, авторских, в полной мере отражают его непонимание того, куда двигаться. Содерберговский «Кафка» как будто плывет в общем мировом арт-фарватере. В следующем «Царе горы» режиссер погружается в уютное ретро (предвосхищая другие популярные опыты в этом жанре). А снятый посреди десятилетия «Шизополис» будет предварен следующей тирадой:
«Дамы и господа, дети и пенсионеры! Возможно, это покажется странным – обращаться к вам перед тем, как начнется фильм, но у нас тут довольно необычный случай. Перед вами – самый важный фильм из всех, что вы когда-либо увидите в своей жизни. Я говорю это, исходя не из финансовых интересов, а из твердой уверенности в том, что та тонкая материя, которая соединяет всех нас, порвется, если каждый мужчина, женщина или ребенок в этой стране не увидит этот фильм и не заплатит полную стоимость билета. Если какие-то эпизоды или идеи этого фильма покажутся вам странными, пожалуйста, имейте в виду, что это ваша вина, а не наша. Так что вам придется пересматривать его снова и снова до тех пор, пока все не поймете сами. В заключение хотелось бы сказать, что я не потратил ни цента на то, чтобы этот фильм сейчас шел в ваших кинотеатрах»[9].
Таким образом, этот режиссер, хоть и отчаянно кривляясь, но постулирует себя как тотального автора, подступающего к горлу зрителя с ножом уникального, не терпящего компромиссов замысла. Данный автор требует от зрителя внимания, повиновения и понимания, которое, безусловно, будет достигнуто при соблюдении первых двух условий. Именно таким автором Содерберг остается до сих пор. К концу 1990-х годов режиссер вырабатывает уникальную стратегию, которая превращает его в одного из самых успешных постановщиков американского кино. Он один из немногих, кто способен полностью контролировать креативный процесс, работая даже в безусловно коммерческих жанрах[10]. Даже снимая «Одиннадцать друзей Оушена», этот автор тотален, он участвует в продюсировании, пишет сценарий, сам компонует кадр, сам монтирует прямо на съемочной площадке, при этом работая с невероятной скоростью и продуктивностью. (Главный страх Содерберга – потерять интерес к собственной работе до ее завершения.)
При таком объеме возможностей для явления авторского видения Содерберг постоянно находит возможности для самоограничения, минимизации своего влияния на фильм. Это модернист, который привык работать в постмодернистской парадигме, используя любые возможности превозмочь собственную авторскую волю. Он любит рамки. Прежде всего, жанровые. Он снимает криминальные фильмы («Вне поля зрения»), триллеры («Англичанин»), судебные драмы («Эрин Брокович»), комедии и ремейки («Одиннадцать друзей Оушена»).
Именно с таким бэкграундом он подошел к постановке «Соляриса» и к Тарковскому. На реализацию этого проекта Содербергом был затрачен огромный бюджет в 50 миллионов долларов, еще порядка 30 миллионов будет вложено в маркетинг и продвижение картины. Все эти деньги в коммерческом смысле выброшены в пустоту. «Солярис» 2002 года – это эксперимент, лабораторная работа, сродни тем, что Содерберг публикует на своем собственном сайте, работая с чужими классическими кинематографическими текстами. Он любит перемонтировать чужие фильмы: сокращать длину, менять последовательность сцен, внедряя свое авторское видение в рамки уже сделанного произведения. Один из последних примеров такого партизанского труда не для сайта, а в большом кино – фильм Спайка Джонса «Она» (2013), который Содерберг умудрился сократить почти вдвое, получив на руки авторский трехчасовой вариант. Джонс совершенно искренне считает Содерберга одним из лучших монтажеров современности. Не все, впрочем, с этим согласны. Например, Пол Шредер, которому Содерберг настойчиво предлагал свою помощь в работе над «Каньонами» (2013), резко ее отверг.
Погружаться в эти детали меня заставляет желание прояснить, с кем мы имеем дело. Содерберг – искусный толкователь чужих текстов и режиссер-аналитик, который уже на монтаже способен переработать чужой материал и полностью присвоить его себе. Чтобы понять это окончательно, достаточно посмотреть его фильм «Англичанин», коллажная структура которого такова, что ни одному зрителю не пришло бы в голову рассматривать его как обычную криминальную драму (которой он все-таки является[11]). В этот коллаж совершенно естественно, на правах воспоминаний одного из героев, инкорпорируются фрагменты чужого фильма, «Бедной коровы» Кена Лоуча. Прошлым мирового кинематографа Содерберг оперирует как своей собственной памятью. В свободное от работы время он делает немые версии «Индианы Джонса», сращивает «Психоз» Хичкока с версией Гаса Ван Сента, перемонтирует и сокращает на полчаса «Космическую одиссею» Стэнли Кубрика.
Чем же стал «Солярис» для этого стихийного модерниста, по-постмодернистски фиксирующего смерть автора своими перемонтажами и громкими заявлениями?[12]
В первую очередь, это, конечно, экранизация романа, новая его интерпретация[13]. Содерберг предлагает прочесть «Солярис» как готическую историю. Историю о посещении героем странного загадочного места, например замка[14]. В этом убеждает и история доктора Сноу (у Тарковского – Снаут), к которому в качестве «гостя» приходит «брат-близнец», то есть классический двойник (доппельгангер), и поглощает своего «близнеца», избавляется от него, занимая его место. Отдельный вопрос фильма: кто настоящий, а кто копия?
Содерберг тоже хотел бы если не вытеснить фильм предшественника, то хотя бы войти с ним в диалог, сопоставить себя с Тарковским. Океан Солярис подсовывал ученым с Земли образы, в которых они безошибочно узнавали фальшивку – что не мешало им наслаждаться собственной ностальгией. В ту же игру Содерберг играет с осведомленным зрителем. Он достает из зрительской памяти тень фильма Тарковского и убивает ее, заставляя вновь и вновь возвращаться к классической ленте в пространстве собственной картины. В «Солярисе» Содерберга есть сцены, которые буквально повторяют то, что мы видели в фильме Тарковского. Но, не перечисляя их, я бы хотел акцентировать внимание на том, как их подает американский постановщик. В докладе, прочитанном днем ранее на этой конференции[15], профессор Ковач говорил о важности фактур в кино Андрея Тарковского. Я соглашусь с ним и обращу внимание на то, как Тарковский «очеловечил», наделил историей упоминавшегося выше доктора Гибаряна. Содерберг же, напротив, зачищает свой фильм от предметности и человечности. Руинизированная исследовательская станция Тарковского приобретает у Содерберга функциональный аскетизм, который пошел бы кухне или операционной. Станция отделана блестящим металлом. По опыту мы знаем, что нержавеющая сталь не впитывает запахи, она санитарна. То есть фактуры Содерберга не только зачищены от наследия Тарковского, но еще и не могут ничего впитать в себя, приобрести хоть какие-то свойства. Это голая сталь, которая избавлена от истории и неспособна ее обрести.