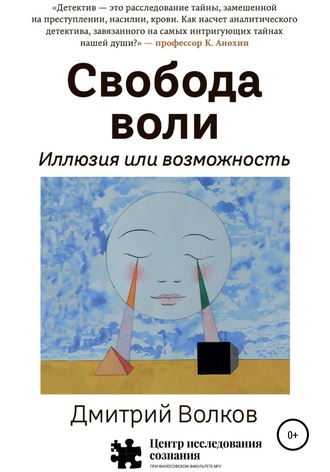 полная версия
полная версияСвобода воли. Иллюзия или возможность
Стросон предвидит соображения, которые мог бы выдвинуть сторонник нарративного подхода в свою защиту, – аргумент, доказывающий нарративный характер структуры даже эпизодических личностей. Аргумент состоит в следующем. Жизнь эпизодических личностей – это развитие, как и жизнь диахронических личностей. В этом смысле жизнь эпизодических личностей тоже представляет последовательность. Эту последовательность могут описывать как сами эти личности от первого лица, так и их окружение. Следовательно, эпизодические личности также реализуются в нарративах. Но Стросон считает, что этот аргумент неудачен, так как он сводит нарративный подход к тривиальности. Если жизнь эпизодической личности можно тем не менее считать реализующейся в нарративе, то и жизнь любого человека будет в этом смысле нарративной. Более того, даже жизнь лошади или собаки можно таким образом считать реализующейся в нарративе. В конце концов, и в жизни лошади или собаки будут развитие и последовательность. Таким образом, Стросон предлагает своеобразную стратегему: либо нарративный подход тривиален, либо он опровергается контрпримером. Так ли это?
Мне кажется, что критика Стросона может быть эффективна для некоторых нарративных концепций личности. Но она бьет мимо тезиса, который я пытаюсь защищать в этой работе. Для удобства свой тезис я назову Прагматическим тезисом о нарративной природе личности. Суть его в том, что именно моральная ответственность за действия личности в прошлом (а также другие прагматические вопросы, такие как забота о выживании или справедливой компенсации) базируется на нарративной структуре личности. Прагматический тезис следует отличать от Психологического тезиса о нарративной природе личности[48]. Согласно Психологическому тезису, все люди переживают свою жизнь как историю, нарратив. Именно Психологический тезис уязвим для критики с помощью контрпримеров с эпизодическими личностями, а не Прагматический. Прагматический тезис предполагает лишь то, что основанием применения моральной ответственности будет нарративная структура и единство личности. Но человек может существовать и без такой структуры. В таком случае, однако, он просто не будет личностью в том понимании этого слова, как оно используется в данной работе, и применение моральной ответственности к нему будет неуместным, неоправданным, безосновательным. Моральная ответственность – как плод на ветке нарратива: падает ветка, падает и плод. Значит ли это, что эпизодические личности не являются собственно личностями и не несут ответственности? В частности, означает ли это, что к Стросону нельзя применять эту категорию?
В строгом смысле – да. Действительно, эпизодические личности не должны нести ответственность за действия. Но является ли личность эпизодической или диахронической – вопрос не такой однозначный. В решении этого вопроса не только сама личность, но и представления окружающих об этой личности имеют значение. Человек может декларировать отсутствие особой привязанности к своему прошлому и особой заботы о своем будущем, как это делает Г. Стросон. «Я имею прошлое, как любой другой человек, и я прекрасно понимаю, что имею прошлое, – пишет он. – У меня достаточно фактических знаний о нем, и я также помню некоторые из моих прошлых переживаний “изнутри”, как говорят философы. И при этом я ни в коей мере не переживаю свою жизнь как оформленный нарратив и тем более как бесформенный нарратив. Совсем не переживаю. Точно так же у меня нет какого-то великого или особого интереса к своему прошлому. Как нет у меня и какой-то серьезной озабоченности своим будущим» [Ibid., 67]. И при этом из его поведения может следовать обратное, по крайней мере иногда. В таком случае его нельзя считать эпизодической личностью. К примеру, если человек все-таки иногда сожалеет или гордится событиями своего прошлого, если он иногда с большей тревогой относится к переживаниям в будущем собственной боли, чем к будущим переживаниям боли других, значит, он – не эпизодическая, а диахроническая личность. И он несет моральную ответственность за действия, которые следует относить к его биографической истории, даже если сам он их явным образом к себе не относит. Каким человеком является Гален Стросон? Мне сложно сказать, но мне трудно представить, чтобы человек, живущий вполне обыкновенной жизнью, был эпизодической личностью.
С другой стороны, я, конечно же, могу представить себе человека, проживающего экстраординарную жизнь, который был бы эпизодической личностью. Таким человеком мог бы быть, например, отшельник, проводящий время в медитации и реализовавший буддийские идеалы: человек, лишенный страдания и освободившийся от желаний. Нет ничего противоречивого в том, чтобы помыслить человека с такими психологическими характеристиками. Но его поведение, по моему мнению, радикально отличалось бы от поведения обычных людей, и это было бы очевидно со стороны. Такого человека вряд ли можно было бы считать обычной личностью или вообще личностью. Более того, думаю, ему вообще трудно было бы приписывать наличие Я.
Это отчасти подтверждают описания переживаний существования эпизодических личностей самого Г. Стросона: «Я не имею осмысленного ощущения, что я – я, сейчас размышляющий над этим вопросом, – существовал когда-то в прошлом. И для меня очевидно, что это не ошибка восприятия. А скорее регистрация факта обо мне – о том, кто сейчас размышляет над этой проблемой» [Ibid., 68]. Стросон ссылается на то, что у него нет ощущения, что Я присутствовало в прошлом. Но он также не разъясняет, в чем заключается осмысленное ощущение существования Я в настоящем. Если «переживания перспективы изнутри» не являются достаточными для переживания Я, то ни в прошлом, ни в настоящем с помощью интроспекции нельзя обнаружить Я. Достаточно вспомнить приведенные в начале главы рассуждения Юма на этот счет. Таким образом, в ответ на стратегему Стросона я предлагаю другую: либо большинство людей, считающих себя эпизодическими личностями, фактически являются диахроническими личностями, то есть просто личностями – в том смысле, как этот термин понимается в данной работе, либо такие люди действительно эпизодические личности, но тогда они не только не личности в собственном смысле слова, но и не обладают Я. Эти специальные случаи эпизодических личностей возможны, но они не являются угрозой для Прагматического тезиса о нарративной структуре личности. Таким образом, я считаю критику Стросона неопасной.
Не будучи опасной, она тем не менее небесполезна. Замечания Стросона подтверждают, что свойство «быть личностью» не является фундаментальным и простым свойством объектов. Оно основано на паттерне событий. Как и ментальная каузальность, это – сложное высокоуровневое свойство, различимое только из перспективы моральной ответственности и рождающее иллюзию метафизической простоты, иллюзию точки сборки и источника действий.
Анализ преимуществ нарративного подхода и замечаний в его адрес позволяет сделать вывод о том, что это – наиболее удачное решение проблемы связи событий и атрибуции их личности. Нарративный подход позволяет объединить атрибуты личности как единомоментно, так и в темпоральной перспективе. Атрибуция событий, в свою очередь, обеспечивает основания приписывания моральной ответственности за действия, произведенные личностью в прошлом. Однако остается не до конца проясненным соотношение нарратива и личности. Ведь именно личность является субъектом ответственности. Нельзя же приписывать ответственность тексту!
Итак, нарратив позволяет охарактеризовать личность. Но кажется, что личность – не то же самое, что биографический нарратив. Представления о нарративе и интуиции о личности, об эго, о Я значительно расходятся. Выше, в начале главы, я уже перечислял традиционные характеристики личности. Среди них – представление, что личность – это простая, элементарная, неделимая сущность. Что она является единым командным пунктом, где принимаются волевые решения. Что эго – «главное место», и что личность сохраняет нумерическое тождество во времени и является абсолютно уникальной, что ее невозможно копировать или размножить. Если нарратив и связан с личностью, то, согласно этим первичным интуициям, он каузально зависим от эго, Я. Я является автором нарратива, разве не так?
VI. Личность как центр нарративной гравитации
1. Полезные аналогии, проясняющие, что такое личность
С тем, что субъект, или эго, является подходящим объектом для атрибуции ответственности, сложно не согласиться. Именно эго мыслится рациональным источником воли и «точкой сборки» всех ментальных содержаний. Это – элементарная, неделимая сущность, сохраняющая нумерическую тождественность во времени, уникальная и защищенная от копирования. Но это эго, судя по всему, не является реальным объектом. Это не вещь, не что-то конкретное. Скорее это теоретическая конструкция, абстрактная сущность, в некотором смысле – вымысел. Такую позицию занимают Д. Деннет, Д. Вегнер, М. Газзанига.
Как всякая фикция, эго не может быть каузально эффективным. И потому, согласно нарративному подходу, не абстрактное эго является причиной появления автобиографического текста, а автобиографический текст является источником убеждения в существовании эго с описанными выше характеристиками. В данном случае Я – это не автор, а персонаж текста. Но не текст создается персонажем, а персонаж – текстом. Представление об этом персонаже и его характеристиках рождается в результате интерпретации поведения организма и произведенного мозгом текста. Интерпретацию осуществляют как другие, так и сам агент. При этом представление об эго – не случайный вымысел. Это очень полезная конструкция, так как она позволяет делать успешные предсказания, влиять на поведение организма и взаимодействовать с ним. Ее онтологический статус не многим хуже, чем статус научных понятий, таких как крутящий момент, электрическая мощность или, например, центр тяжести в физике. Для разъяснения такого представления Деннет предлагает несколько аналогий [Dennett 1992].
Аналогия 1. Центр тяжести. Центр тяжести играет важную роль в определении поведения объекта. Возьмем, к примеру, неваляшку, некогда одну из самых распространенных детских игрушек. Как ни наклонять эту фигурку в разные стороны, она в итоге примет исходное вертикальное положение. Это происходит потому, что ее центр тяжести находится в нижней части игрушки и стремится занять самое нижнее положение. Наклоняя фигурку, мы смещаем эту точку вверх. Но стоит только ее отпустить, как центр тяжести вновь займет самое близкое к опоре положение.
Зная законы физики, можно найти точку, в которой находится центр тяжести любого объекта. Теоретически в некоторых случаях можно указать даже конкретный атом, совпадающий с центром тяжести. Но пространственное совпадение не будет означать тождественности. Недопустимо идентифицировать центр тяжести объекта с конкретным атомом. Это было бы категориальной ошибкой. Атом обладает физическими свойствами: массой, размером, электрическим зарядом, а центр тяжести – нет. Более того, центр тяжести некоторого тела может находиться и вне границ этого тела – как это обычно бывает, например, у кольца. Это просто геометрическая точка в пространстве. И вести себя она может иначе, чем частицы материи. Так, если прикрепить к одной доске другую другой формы, центр тяжести объединенного предмета окажется в другом месте. Но перемещение центра тяжести будет не последовательное, как у всех материальных объектов, а дискретное, скачкообразное. Некоторые физические ограничения не действуют на абстрактные теоретические сущности.
Физик, изучая движение вещей, допускает существование центра тяжести. А антрополог-любитель, каковыми мы все являемся, постулирует существование эго как в себе, так и в других людях. Оба случая принципиально схожи, так как пополняют онтологию теоретическими сущностями, полезными в реализации практических целей. И эти теоретические сущности имеют любопытные особенности. Эти особенности можно исследовать на примере другой фикции – вымышленных персонажей.
Аналогия 2. Персонаж литературного произведения. Откроем роман «Моби Дик». На первой странице читаем: «Зовите меня Измаил». Кого называть Измаилом? Автора этих строк, Мелвилла? Нет, мы зовем Измаилом Измаила. Но кто он такой? Это вымышленный персонаж Мелвилла. Довольно много о нем мы узнаем из романа. Что он китобой и что он ищет приключения на судне «Пекод». Кое-что оказывается понятным между строк. Например, что у него две руки и две ноги. Ведь кроме особенностей, описанных автором, мы полагаем, что его герой в остальном похож на прочих людей (в отличие от капитана Ахава, например). Но что-то об Измаиле останется принципиально неопределенным. К примеру, было ли у него родимое пятно на плече? Этот вопрос не может быть выяснен, поскольку Мелвилл об этом ничего не говорит. Существование такого рода неопределенностей и есть основное отличие вымышленных персонажей от исторических. В отношении первых не всегда действует принцип бивалентности. Утверждения о них могут носить не только истинный или ложный характер, но и неопределенный. Ведь их существование задается только границами текста и культуры, в которых они создаются. То же самое применимо и к личностям. Как, впрочем, и к центрам тяжести. Они имеют только те свойства, какими наделила их теория. Что, однако, не делает эти понятия бессмысленными или неприемлемыми для серьезной дискуссии и даже науки. В конце концов, наука не смогла бы развиваться без подобных понятий.
История с Измаилом – хорошая иллюстрация появления вымышленных личностей. Но она, кроме пользы, может отбросить нас назад, вернув к исходным интуициям. Она может напомнить о связи вымышленных героев с реальными авторами. Для нейтрализации этой интуиции можно обратиться к еще одной ситуации, придуманной уже упомянутым Д. Деннетом специально для этой цели, – к ситуации с машиной, которая пишет романы. Это будет третья иллюстрация, которую мы используем для прояснения сущности личности.
Аналогия 3. Созданный алгоритмом образ. Представьте машину-писателя. В ней есть набор различных текстовых фрагментов, правил и каких-то алгоритмов перемешивания слов. Эта машина создана не для написания какого-то конкретного романа, а просто чтобы генерировать осмысленные тексты. Создана так, что ее создатели сами не знают, какой сюжет и каких героев она в этот раз выпишет. Вот мы включаем машину, и из ее принтера появляется заглавие, а за ним – первые строки романа: «Описание жизни Гилберта». «Зовите меня Гилберт», – начинается текст. И далее появляются страницы биографического описания жизни и приключений Гилберта. Машина, не имеющая представлений ни о мире, ни о романе, вполне способна создать и вымышленного героя, и его биографию. Теперь усложним ситуацию: поместим машину в небольшого робота на колесах. Представьте, как он вместе с машиной-писателем попадает в чулан и там случайно закрывается. И тут же из его принтера появляется продолжение истории: «Меня заперли в чулане. Помогите!» Помочь кому? Гилберту, наверное. Но кто этот Гилберт? Робот? Или вымышленный персонаж, созданный роботом? Мы спасаем машину из чулана, и она тут же выдает новый текст: «Благодарю. Ваш Гилберт». Теперь уже нельзя игнорировать любопытное соответствие между историями вымышленного персонажа, Гилберта, и робота. Но сам робот – не персонаж, он может даже не знать, что создает персонажа. Он фактически не обладает качествами, приписываемыми персонажу, в частности той целостностью, рациональностью и сентиментальностью Гилберта. Робот – только машина с различными механическими частями. И тем не менее эта машина способна породить образ рационального, чувствительного, целостного эго. Скорее всего, машина человеческого мозга делает что-то подобное.
Доводы в пользу такого суждения и релевантности приведенных выше трех аналогий можно почерпнуть, в частности, из области психиатрии и нейронауки. В качестве основы для одного из доводов может служить феномен множественной личности (иначе это психическое нарушение называется диссоциативным расстройством личности). Другой довод можно построить на наблюдениях за пациентами с расщепленными полушариями мозга.
2. Эмпирические доводы в пользу концепции Центра нарративной гравитации
A. Диссоциативное расстройство личности
Синдром множественной личности (СМЛ) – это психическое расстройство, при котором один человек, один организм обладает двумя или более идентичностями или личностными состояниями. Каждая «личность» (или альтер-эго) имеет собственные характер, мировоззрение и воспоминания (а иногда и собственные возраст, расу, пол), отличающиеся от таковых характеристик других «личностей». Эти «личности» попеременно контролируют поведение человека. Поступки, совершенные под контролем одной «личности», не оставляют в памяти другой «личности» следов. Поэтому как минимум одна «личность» не знает о существовании другой. Свидетельства о существовании подобного синдрома существуют с XVII века, но именно на конец XX в. приходится основная масса исследований этого заболевания. К 1995 г. было зарегистрировано почти 40 000 подобных пациентов. Большая часть из них диагностирована в Северной Америке.
Обычно у расщепленной личности есть «хозяин», доминирующая по времени личность. Эта личность имеет довольно слабую эмоциональность. В отличие от нее альтер-эго демонстрируют доминирование какой-то одной, но сильной эмоции или качества: раздражительности, заботливости, сексуальности, инфантильности и т. п. Жизнь альтер-эго состоит из тех эпизодов, когда оно выходит на сцену. Эти эпизоды оно запоминает и из них составляет историю о том, что оно такое. Чаще всего альтер-эго имеют собственные имена. Количество таких личностей может быть от двух до нескольких десятков. Замечено, что, когда «семья» становится большой, начинают появляться личности противоположного пола. Своеобразие феномена можно почувствовать, только если рассмотреть какой-нибудь конкретный пример. Возьмем историю болезни, воспроизведенную Деннетом в статье «Говоря за нас». Это история о Мэри. История эта вымышленная, но она не так далека от реально зафиксированных историй пациентов с подобными симптомами.
Тридцатилетняя Мэри страдает депрессией, резкой переменой настроения и потерей памяти. Последние несколько лет она часто попадает в клиники. Ей ставят разные диагнозы: шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, пограничное расстройство личности. Ее случай наконец привлекает внимание доктора Р., занимающегося диссоциативными расстройствами. Мэри рассказывает врачу свою историю.
Ее отец умер, когда ей было два года. Поэтому Мэри воспитывал отчим. В целом он был добр к Мэри, но иногда «это заходило слишком далеко». В подростковом возрасте для нее характерны были резкие изменения настроений, плохая дисциплина в школе. Ее воспоминания о детстве, о школе и о занятиях очень отрывочны. К примеру, она хорошо играет на гитаре, но не помнит, как этому научилась. Рассказывая о себе, она иногда начинает говорить в третьем лице. Сейчас она также обнаруживает провалы в памяти: находит в гардеробе одежду, которую не покупала, отправляет родственникам несколько повторных поздравительных открыток. Она утверждает, что у нее высокие моральные ценности, но признаёт, что у других о ней может складываться противоположное мнение.
На одном из сеансов врач решает идти ва-банк. С согласия Мэри он вводит ее в гипнотическое состояние и просит появиться ту часть Мэри, что не выходила раньше. И вдруг Мэри, или та, что недавно была Мэри, неожиданно бросает доктору кокетливый взгляд: «Привет, док! Я Салли… Эта Мэри – просто тряпка. Она думает, будто все знает, но я могу рассказать тебе гораздо больше». Внезапно появившись, Салли так же внезапно исчезает. На следующих сеансах на сцене появляются новые лица – «Хейти» и «Пегги». Мэри об их существовании, конечно, ничего не знает. Ее истории диссоциированы. Чтобы вылечить пациентку, врачу нужно познакомить различные «личности» Мэри друг с другом и интегрировать их в одну, а также выяснить причину возникшего расстройства. Только в таком случае Мэри сможет вернуться к нормальной жизни. По крупице врачу удается восстановить историю заболевания.
С четырех лет отчим стал брать Мэри с собой в кровать. Он ласково называл ее Сандрой, гладил и ласкал ее. Он говорил, что это будет их секретом. Иногда Мэри старалась доставить радость отчиму, иногда притворялась бесчувственной. Когда же, наконец, Мэри сказала ему, что больше не может терпеть и что расскажет обо всем другим – он ударил ее и предупредил, что тогда они оба отправятся в тюрьму. Переживания оказались невыносимыми. Поэтому Мэри просто перестала ассоциировать себя с Сандрой. Через какое-то время и Сандра «расщепилась», уступив место Салли – той части, что старалась доставить отчиму удовольствие, Хейти – той, что испытывала злобу и гнев, и Пегги – той, что притворялась бесчувственной. Во взрослой жизни Мэри эти личности нашли себе подходящие роли. Когда Мэри испытывала злобу, ее место занимала Хейти, когда ее целовал мужчина, на сцене возникала Салли. В юности все эти перемены объяснялись окружением Мэри как особенности «трудного возраста». К тридцати они уже доставляли ей серьезные проблемы.
История Мэри вполне типична для пациентов с СМЛ: детская травма и внутренний конфликт, затем – неосознанная выработка внутреннего решения и изоляция травмирующего опыта, структурные изменения личности и терапия, вследствие которой травмирующий опыт восстанавливается и нейтрализуется. Эта история демонстрирует работу одного из защитных механизмов психики – диссоциации. Суть этого механизма заключается в том, что человек перестает ассоциировать действующего персонажа собственных воспоминаний с самим собой и отдает эту роль «кому-то другому», перенося на него и связанные с этими воспоминаниями переживания. Такая способность может реализовываться и у здоровых людей в измененных состояниях сознания или в критические, особенно стрессовые моменты. Она представляет собой любопытный феномен.
Но история Мэри в частности и феномен СМЛ в целом для нашего исследования полезны не столько как иллюстрация диссоциации, сколько как модель обратного, более базового, стандартного процесса – процесса ассоциации или индивидуации личности, выработки собственного Я. Люди, страдающие СМЛ, ассоциируют ментальные содержания во множество кластеров, а здоровые – преимущественно в один. Если нарратив последователен, то в процессе индивидуации появляется один агент. А если нарратив не может быть выстроен последовательно ввиду его травматичности – то много. Но суть процесса от этого не меняется. Как пишет гарвардский психолог Д. Вегнер, субъективное эго, которое есть у нас в таком контексте, – это только один виртуальный агент из множества возможных [Wegner 2002, 255]. И, судя по описанным случаям, процесс индивидуации личности, появления этого виртуального агента, больше похож на выработку писателем образа персонажа или постулирование теоретической сущности, чем на обнаружение нового природного объекта.
Для взаимодействия с внешним миром и предсказания даже собственных действий удобно постулирование единой, рациональной, уникальной, непрерывно существующей личности. Но если сделать это не получается, один организм, один мозг может создать два образа или даже целую когорту. Личность способна интегрироваться или дезинтегрироваться, как центр тяжести: стоит разделить физический объект, и у его частей тут же возникнут два собственных центра. Но если мы объединим части вновь, центр тяжести снова будет один. Какой центр тяжести был новым, какой – старым? Существовали ли эти центры одновременно в одном объекте? Будет ли вновь объединенный центр тяжести тем же самым, что был раньше? Такие вопросы можно задавать. Но если ответы на них и будут различаться, это будут, скорее всего, лишь терминологические различия. То же самое верно и в отношении вопроса о количестве и тождестве личностей Мэри. Можно сказать, что в действительности у нее одна личность, но она многогранна, а можно сказать, что у нее 4 личности. Оба ответа будут в какой-то степени верны и будут различаться лишь терминологически. Если личность, как следует из наших размышлений, это абстрактная сущность, данные вопросы не имеют принципиального значения.
B. Пациенты с разделенными полушариями
Представление о том, что личность как единый рациональный субъект представляет собой удобную фикцию, поддерживается также наблюдениями за людьми с расщепленными полушариями мозга (split-brain patients). Эти люди в лабораторных условиях демонстрируют удивительный феномен – раздельную, автономную интеллектуальную работу полушарий мозга. Исходя из этих наблюдений, можно допустить у них два раздельных потока сознания с различными воспоминания, желаниями, убеждениями. При этом в обычных условиях такие пациенты практически неотличимы от здоровых людей. Ни люди со стороны, ни даже сам субъект не обнаруживает аномалию. Кажется, что даже в патологических случаях психика находит способы ассоциации переживаний и ретроспективного объяснения поведения, как будто оно происходит из единого волевого центра. Организм домысливает существование интегрированного агента даже тогда, когда он очевидно отсутствует.



