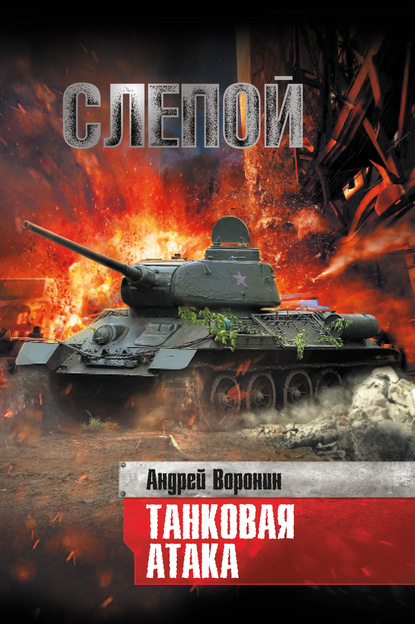Полная версия
Слепой. Антикварное золото
Идея по поводу того, где взять деньги, родилась сама собой. Был у него один знакомый… вернее, не столько знакомый, сколько партнер по игре, с которым ему раз-другой довелось посидеть за карточным столом. Дмитрий вовсе не был уверен, что при очередной встрече Александр Антонович его узнает; тем более не был он уверен в том, что господин Гронский захочет с ним говорить. Но, не откладывая дела в долгий ящик, он отыскал рабочий телефон Александра Антоновича, не без труда до него дозвонился и договорился о встрече в первой половине дня. В начале одиннадцатого Дмитрий Крестовский, одетый с иголочки, свежий и бодрый, покинул квартиру, владеть которой ему оставалось совсем недолго, завел свой десятилетний «рено» и, исполненный решимости, отправился навстречу своей незавидной судьбе.
Глава 4
– Мне кажется, я вас где-то уже видел, – сообщил задержанный Егоров. – Мы раньше не встречались?
Сказано это было легким, светским тоном, хотя голос у Егорова едва заметно дрожал: задержанный изо всех сил старался держаться как свободный человек, ставший жертвой досадного недоразумения, которое вот-вот разъяснится. Этому заметно мешали наручники, которыми рыжий диггер был пристегнут к руке дюжего сержанта милиции. Сержант, строевая дубина, полез под землю в той самой амуниции, в которой патрулировал улицы и подпирал стены в дежурке, так что теперь выглядел он далеко не лучшим образом: форменное кепи все в пыльной паутине и кирпичной крошке, на плече пятно грязи, колени в земле, и на левом – изрядная дыра. В левой, свободной от наручников руке сержант держал мощный фонарь; обе руки у него, таким образом, оказались заняты, и ничто не мешало задержанному при желании подобрать с пола обломок кирпича потяжелее и треснуть своего конвоира по кумполу.
Задержанный, впрочем, не собирался предпринимать никаких отчаянных шагов, тем более что со всех сторон его окружали другие участники следственного эксперимента, числом восемь, и бежать ему, да еще и прикованному, было некуда, а главное, незачем. Глеб Сиверов на его месте, наверное, все-таки попытался бы удрать, дабы не вводить ментов в искушение повесить на него парочку своих «глухарей», но задержанный Егоров был слеплен из другого теста и явно не хотел рисковать, полагаясь на справедливость российского уголовного законодательства и порядочность подполковника Ромашова.
В данный момент этот рыжий теленок хлопал глазами на Глеба, дожидаясь ответа на свой вопрос. Сиверов заметил, что Ромашов с любопытством ждет того же.
– Не думаю, – сказал Глеб безразлично и отвернулся.
Он солгал. Они с Егоровым встречались – давненько и мельком, но встречались. Человеческая память – хитрая штука. Наверху, при дневном свете, рыжий диггер его не узнал. Да и сам Сиверов далеко не сразу сообразил, откуда ему знакома эта конопатая физиономия с наивными бледно-голубыми глазами в обрамлении пушистых, красных, как новенькая медная проволока, ресниц. И только спустившись под землю и отшагав сырыми, провонявшими канализацией коридорами пару километров, вспомнил, как это было.
…У него тогда кончилось курево – когда именно и как давно, он не помнил, просто сигарет не было, и все. Он уже не первый час без цели и смысла брел через подземный лабиринт, время от времени слыша отдаленное громыхание поездов метро и обращая на него не больше внимания, чем шагающий тайгой охотник на шум верхового ветра в кронах лесных гигантов. Мысли путались – детали тщательно разработанных планов мести перемешались с обрывками воспоминаний и снов, и все это было окрашено в мрачные черно-багровые тона – цвета подступающего безумия. На ходу он вел бесконечный и беспорядочный разговор с призраками своего прошлого – с теми, кто давно умер, с теми, кто продолжал жить, и с теми, кто должен был умереть в ближайшее время. Приговор ему уже был вынесен, и десятки лучших охотников за людьми день и ночь искали его по всей огромной Москве – не для того, чтобы захватить, а для того, чтобы застрелить при первой удобной возможности, как бешеного пса.
Он шел, низко надвинув капюшон куртки, из-за которого местные диггеры, время от времени замечавшие вдалеке его бесшумно скользящую сквозь вечный мрак фигуру, прозвали его Черным Монахом. Неистребимое амбре сырой известки и сточных вод насквозь пропитало одежду и, казалось, даже кожу, пистолет тяжело и привычно оттягивал книзу карман. Рука в заскорузлой от грязной воды кожаной перчатке вяло приподнялась и машинально потерла заросший жесткой недельной щетиной подбородок. Неожиданно знакомое зловоние подземелья прорезала свежая, бодрящая, как утренний сквозняк, струя другого запаха. Ошибиться было невозможно: пахло табачным дымом. Глебу вдруг до смерти захотелось курить, и он, не рассуждая, двинулся на запах, держа руку на рукоятке пистолета. Если это охотник, то, конечно, он не один. Под землей не принято бродить в одиночку, особенно когда выслеживаешь опасного зверя – бешеного пса по кличке Слепой. Ничего, ничего… Первая пуля – по фонарю, а потом, в темноте, бери их голыми руками и ешь с кашей. Одного надо будет оставить в живых – пускай передаст привет организаторам охоты…
Вскоре он увидел впереди отблеск рассеянного света, а повернув за угол, обнаружил и его источник – небольшой фонарик, притороченный к пластмассовой спелеологической каске. Каска лежала на полу, пристроенная с помощью обломка кирпича таким образом, чтобы луч фонаря бил под углом вверх. Владелец каски, молоденький парнишка с огненно-рыжей шевелюрой, действительно сидел на корточках, привалившись лопатками к корявому бетону стены, и курил, держа сигарету по-солдатски, огоньком в ладонь. Как ни странно, он был совсем один.
Глеб возник перед ним неожиданно и бесшумно, как призрак. Мальчишка дернулся, но остался сидеть, глядя на Слепого снизу вверх широко распахнутыми от вполне понятного испуга глазами в обрамлении пушистых рыжих ресниц.
– Черный Мо… – начал он, разглядев надвинутый капюшон, и тут же испуганно замолчал.
– Сигареткой не угостишь, земляк? – миролюбиво спросил Глеб, сам удивившись тому, как сипло и незнакомо прозвучал его голос. – Все курево вышло, а до дома далеко. И, что характерно, кругом ни одного табачного киоска!
– Да уж, – согласился рыжий диггер и протянул ему открытую пачку. – Прошу.
Глеб выковырял из пачки сигарету, закурил и, сам не зная, какой бес тянет его за язык, спросил:
– А ты, часом, не заблудился?
Парень отрицательно помотал рыжей головой.
– Люблю ходить один, – объявил он с вызовом, свидетельствовавшим о том, что ему не раз приходилось отстаивать перед окружающими свое право на маленький персональный бзик.
– Это опасно, – заметил Слепой и тут же, спохватившись, добавил: – Впрочем, дело твое. За сигарету спасибо. Будь здоров.
Уходя, он думал о том, что рыжего диггера, конечно же, следовало убрать. Он был опасным свидетелем; конечно, Черный Монах – всего лишь легенда, и рассказам о встречах с ним поверит едва ли один человек из сотни. Но история о том, как некий рыжий сопляк дал закурить самому Черному Монаху, может дойти до ушей охотников. А они умны и не привыкли лениться, когда речь идет о том, чтобы выполнить «горячий» приказ высокого лубянского начальства…
Диггера надо было убрать. Сделать это было проще простого, и никто бы особенно не удивился: рыжего дурака наверняка сто раз предупреждали, что рано или поздно он не вернется из очередной одиночной вылазки в катакомбы. Глеб оглянулся через плечо. Мальчишка уже не сидел, а стоял, хорошо различимый на фоне освещенной фонариком стены, и изо всех сил вглядывался в темноту, где скрылся таинственный Черный Монах. Он представлял собой завидную мишень; Глеб наполовину вытянул из кармана тяжелый «стечкин», а потом молча покачал головой и разжал пальцы. Пистолет беззвучно скользнул обратно в карман, Глеб повернулся к рыжему диггеру спиной и решительно зашагал прочь…
Таким этот мальчишка ему и запомнился: одинокая темная фигура на освещенном фоне, одетая в мешковатый прорезиненный комбинезон и высокие непромокаемые ботинки, туго перехваченные у лодыжек кожаными ремешками…
За годы, прошедшие с момента их единственной встречи, рыжий диггер почти не изменился. Да и Глеб, судя по тому, с какой легкостью был узнан, тоже сохранился неплохо. «Интересно, – подумал он, косясь на подполковника Ромашова, – что бы он сказал, узнав, что тот опасный сумасшедший, за которым не так давно с риском для здоровья и жизни гонялись все силовики города-героя Москвы, в данный момент преспокойно шагает рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки? Вот взвился бы, наверное! А потом до самой пенсии рассказывал бы коллегам, что на Лубянке работают одни психи…»
Дело, которое привело Глеба в компанию неприязненно косившихся в его сторону милицейских чинов и рыжего задержанного, касалось некоей золотой сережки, изготовленной, по утверждениям экспертов, в Малой Азии и датируемой концом второго тысячелетия до нашей эры. Рыжий диггер по фамилии Егоров, если верить его словам, нашел ее где-то здесь, под землей, и не придумал ничего умнее, как отнести находку в антикварный магазин. Этот поступок, хотя и далеко не самый умный, вполне мог сойти ему с рук: опытный антиквар, с первого взгляда оценив не только стоимость серьги, но и не внушающую никаких опасений личность рыжего лопуха, который ее приволок, скорее всего, дал бы за нее чисто символическую цену, а потом радостно потирал бы руки – так долго и энергично, что, вполне возможно, добыл бы трением огонь. Но на беду рыжего Егорова, незадолго до его визита в антикварный магазин какие-то ловкачи обнесли квартиру коллекционера Степаниди. Было украдено много ценного, в том числе и антикварные золотые украшения, в связи с чем все московские антиквары были надлежащим образом обработаны орлами подполковника Ромашова.
Получив в свое распоряжение серьгу и без труда убедившись, что к разграбленной коллекции Степаниди она отношения не имеет, подполковник Ромашов – мент, судя по всему, добросовестный и обстоятельный – разослал фотографии своей добычи во все московские музеи на предмет выяснения, не пропадало ли из их запасников что-либо похожее.
Музеи – те, что вообще посчитали нужным откликнуться, – ответили в том смысле, что ничего похожего из их коллекций не пропадало; более того, ничего похожего в большинстве из них никогда и не было. Судя по этим ответам (Глеб их читал), отношение музейных работников к запросу подполковника Ромашова было скорее юмористическим, как будто тот пытался убедить их, серьезных людей, маститых ученых, в существовании, скажем, Змея Горыныча.
По счастью, среди этих корифеев духа совершенно случайно оказалась Ирина Андронова. Она как раз консультировала местное руководство по поводу живописного полотна, которое вскорости должно было украсить один из залов Исторического музея, когда туда пришел факс с Петровки.
Ирина Константиновна, в памяти которой еще была свежа недавняя история с троянским головным убором из золота, который какой-то проходимец не то предлагал, не то не предлагал коллекционеру Маевскому, не на шутку встревожилась. Что-то уж слишком много в Москве предметов, связанных с раскопками древней Трои! Она даже заподозрила, что кто-то готовит почву для грандиозной махинации, однако факс был подписан подполковником МУРа, который, в свою очередь, ссылался на мнение Петра Самсоновича Степаниди – человека, при всех его многочисленных недостатках, знающего и опытного.
Ирина позвонила генералу ФСБ Потапчуку, который к тому времени уже вернулся в Москву, и Глеб Сиверов не успел, что называется, лба перекрестить, как очутился в этом подземелье – в красном резиновом комбинезоне со светоотражающими нашивками, в пластмассовой каске и с фонарем, который ему не столько помогал, сколько мешал.
У пролома в кирпичной стене они ненадолго задержались: господа сыщики разглядывали и фотографировали брошенную здесь кем-то кувалду – почти новую, если не считать нескольких пятнышек ржавчины, уже появившихся на увесистой чугунной головке. Рыжий Егоров тянул своего конвоира вперед, как рвущаяся с поводка охотничья собака, – видимо, ему хотелось поскорее привести всю компанию на место, доказать правдивость своих показаний и покончить с этой неприятной историей. Глеб шел за ним, гадая, хватит ли у подполковника Ромашова совести не пытаться повесить на этого клоуна еще и убийство. Он присмотрелся к Егорову. Тот выглядел взволнованным и явно с трудом держал себя в руках, но его, похоже, еще не били. Значит, Ромашов на самом деле верит, что рыжий диггер не совершал ничего противозаконного – кроме, естественно, прогулок под землей, на которые московская милиция с некоторых пор смотрит довольно-таки косо…
Сводчатый коридор, в котором они очутились, по одному протиснувшись в пролом, был сверху донизу выложен кирпичом. Кирпич был красный, узкий, гладкий, отлично обожженный и превосходно сохранившийся – сразу видно, что старинный. Об этом же говорило и безупречное качество кладки.
– Умели же строить в старину! – завистливо протянул конвоир Егорова, обирая с оттопыренных ушей клочья пыльной паутины и разглядывая исчерченный затейливыми узорами копоти свод. В ботинках у него хлюпало и чавкало – по дороге им пришлось переходить подземный ручей.
– Да уж, раствор в карманах со стройки не уносили, – согласился молодой опер, на шее у которого висел цифровой фотоаппарат в водонепроницаемом чехле.
Он остановился и сфотографировал оттиснутое на кирпиче четкое клеймо с фамилией фабриканта и датой: «1843».
– Не отвлекаться, – буркнул Ромашов и, поддернув рукав резиновой куртки от армейского комплекта химзащиты Л-1, посмотрел на часы.
Они шли подземными коридорами уже без малого два часа, продвигаясь не столько вперед, сколько вниз, – спускались в какие-то вертикальные шахты, протискивались в узкие колодцы, на животе сползали в неровные проломы, промоины, провалы, оставляя над собой многие метры изрытой тоннелями и коридорами почвы. Метро они перестали слышать уже давно; первое время один из оперативников Ромашова поминутно сверялся с какой-то картой – по всей видимости, схемой подземных коммуникаций Центра, – а потом бросил это бесполезное занятие, то ли окончательно запутавшись, то ли осознав наконец, что они углубились в области, не обозначенные ни на одной из существующих схем.
Глеб не нуждался в карте и компасе – он и без них хорошо представлял, где находится. Дорога получилась длинной и запутанной, но далеко они не ушли – прямо над ними шумел Центр, звенели куранты Спасской башни и светило яркое весеннее солнце. Если бы существовала возможность прямо отсюда пробуравить вверх вертикальную скважину, она вышла бы на поверхность где-то совсем недалеко от ограды Александровского сада. Они пробирались под старой частью города, исследуя лабиринт, о котором и полторы сотни лет назад знали очень немногие.
Желание выкурить сигарету сделалось труднопреодолимым, и, сосредоточившись на причине этой внезапно пробудившейся тяги к никотину, Глеб очень быстро ее установил. В коридоре скверно пахло. В общем-то, в старых подземельях, половина которых в то или иное время использовалась в качестве канализации, всегда стоит неприятный запашок, но вонь, заполнявшая этот коридор, была иного сорта. Глеб хорошо знал этот запах, неизменно сопутствовавший смерти, и понял, что цель их путешествия близка. Это случилось раньше, чем рыжий Егоров произнес:
– Вон за тем поворотом.
Сказано это было так, что сразу становилось ясно: сам Егоров туда, за поворот, идти не намерен. Впрочем, его мнением никто не интересовался; сержант в испачканной униформе дернул наручник и, хлюпая ботинками, потащил слабо упирающегося диггера вперед – точь-в-точь как спешащий завершить утреннюю прогулку хозяин оттаскивает своего пуделя от столба, который тот вознамерился неторопливо, вдумчиво обнюхать.
Освещая коридор фонарями, остальные двинулись следом. Глеб подумал, что в этих местах уже очень давно люди не ходили такими толпами. Он заметил, что некоторые члены группы – в основном те, что помоложе, – морщат носы, а один из оперативников, похоже, из последних сил боролся с подступающей тошнотой. Запах разложения усиливался, и Глебу опять подумалось, какое же это нелепое создание – человек. И при жизни от подавляющего большинства так называемых сапиенсов не видно особого толку, и после смерти от них остается одна вонь…
Как и обещал рыжий Егоров, источник зловония обнаружился сразу же, как только они повернули за угол коридора. Поза, в которой лежал покойник, ясно указывала на то, что смерть его не была легкой. У самого поворота, метрах в десяти от тела, на полу поблескивала тусклой медью россыпь стреляных гильз – шесть штук. Пока менты очерчивали каждую мелом и фотографировали с различных ракурсов, Глеб на глаз прикинул, что стреляли по крайней мере из двух пистолетов. Даже издалека было видно, что гильзы различаются по размеру: три были, скорее всего, от старенькой «тэтэшки» и еще три – от куда более тяжелого и мощного оружия калибром никак не меньше одиннадцати миллиметров.
Совершая хладнокровное убийство, так не стреляют; даже люди, которыми владеет ярость, обычно подходят к своей жертве поближе, потому что пистолет – не винтовка и не автомат, скорострельность, точность и дальность боя у него невелики. А здесь палили с десяти метров, нажимая на спусковой крючок до тех пор, пока жертва не упала на земляной пол и не затихла, мучительно скорчившись и подтянув колени к разорванному пулями животу.
Глеб получил подтверждение своей догадки, разглядев в руке убитого пистолет – современный девятимиллиметровый «вальтер». Теперь все стало ясно: увидев, что противник вооружен, убийцы испугались и открыли огонь на опережение, возмещая недостаток меткости избыточной плотностью огня. Впрочем, вполне возможно, что убийца был один и стрелял с двух рук…
Один из оперативников, старательно сдерживая дыхание, присел над уже сфотографированным трупом и осторожно за ствол поднял слегка тронутый ржавчиной пистолет.
– Ба! – воскликнул он. – Да это ж пневматика!
Глеб поднял брови. Хорошенькое оружие против двух нарезных стволов! Из такого хорошо по воробьям стрелять. А в подземелье – по крысам…
– Ну, – обращаясь к Егорову, недовольно произнес подполковник Ромашов, – и где она лежала, эта твоя сережка?
– Да прямо у него в ладони, – ответил рыжий диггер, – в левой.
– Покажи, – потребовал Ромашов, решивший, по всей видимости, до конца соблюсти правила проведения следственного эксперимента.
– Что показать? – слабо заупрямился Рыжий.
– Как подошел, как заметил, как взял… Давай действуй!
Задержанный Егоров протяжно вздохнул и принялся показывать.
– Ну, вот так я подошел, – говорил он, буксируя за собой продолжающего хлюпать промокшими ботинками сержанта, – вот тут остановился. Испугался, хотел уйти… Потом увидел – что-то блестит. Гляжу – сережка. Золотая, крупная… А мне на запчасти для мотоцикла не хватает, «хонду» свою я хотел подновить… Ну, наклонился… А нагибаться обязательно? Запах… Тогда так не воняло.
– Давай, давай, – опередив Ромашова, сказал ему сержант. – «Запах»… Будешь знать, как мародерствовать!
Егоров нехотя наклонился и вдруг, издав сдавленный горловой звук, резко отвернулся от трупа. Его завтрак с плеском вырвался на свободу, и в царившем вблизи разлагающегося тела зловонии появился новый компонент.
– Отведи его в сторонку, – скомандовал сержанту Ромашов, – а то он нам все улики заблюет. Все ясно, – добавил он, ни к кому не обращаясь. – Готовый «висяк»!
Глеб снова подумал, что рыжему диггеру крупно не повезло. Наспех сшить белыми нитками уголовное дело, повесить труп на этого беднягу Егорова куда легче и спокойнее, чем тратить время и силы на бесплодные попытки отыскать настоящего преступника, которого давно и след простыл.
Пока Сиверов предавался этим грустным размышлениям, труп обыскали. Помимо часов и перстня, таких откровенно дешевых, что на них не польстился даже мечтающий о новеньком мотоцикле рыжий диггер, на теле обнаружился бумажник – без денег, если не считать какой-то мелочи, но зато с водительским удостоверением и документами на машину – десятилетний «рено».
– Крестовский Дмитрий Петрович, – прочел Ромашов, держа удостоверение на отлете, словно боялся испачкаться, и светя на него фонариком.
– Ну вот, – сказал ему Глеб, – а ты говоришь: «висяк». Личность убитого установлена, а это уже полдела.
– Ага, – саркастически согласился подполковник. – Знать бы еще, где взять вторую половину!
* * *Когда в кабинет Александра Антоновича Гронского вошел человек, которому в скором времени предстояло стать покойником, хозяин неторопливо попивал кофе из прозрачной, очень изящной фарфоровой чашечки с золотым ободком. Он сидел боком к письменному столу, забросив ногу на ногу и держа чашку на весу, и сквозь матерчатые ленты вертикальных жалюзи любовался открывающимся из окна видом на Москву-реку. В реке отражалось хмурое весеннее небо, вода цветом напоминала окислившийся свинец; по испятнанной островками нерастаявшего грязного снега набережной сновали замызганные автомобили, выстраиваясь в длинные, даже издалека наводящие тоску очереди у светофоров.
Александру Антоновичу было сорок пять лет. Он был высок – без малого два метра – и отличался подтянутым, спортивным телосложением. Темно-серый деловой костюм сидел на нем как на манекене, приятное, умное лицо и крепкую жилистую шею покрывал ровный искусственный загар, который контрастировал с безупречной белизной рубашки. Несмотря на свое высокое общественное положение, – он был президентом крупного столичного банка – среди своих знакомых, друзей и даже подчиненных Гронский пользовался уважением, почти любовью. Происходило это в основном благодаря его манере широко, открыто и радостно улыбаться каждому, с кем ему доводилось встречаться; даже мимолетный кивок в ответ на чье-нибудь приветствие всегда сопровождался у него этой белозубой, в высшей степени дружелюбной и располагающей улыбкой. Разумеется, одной улыбки было мало; еще одним китом, что подпирал спиной популярность Александра Антоновича, было мастерское умение незаметно, без скандалов, судебных процессов и прочего ненужного шума удалять от себя людей, которых его улыбка и дружеская манера общения по тем или иным причинам уже не могли обмануть. Вообще, в арсенале Гронского числилась уйма способов, с помощью которых он мог заставить окружающих плясать под свою дудку и, самое главное, быть очень этим довольными.
Просторный кабинет с громадным, во всю стену, окном из поляризованного стекла был обставлен со сдержанной роскошью, соответствовавшей характеру и положению хозяина. Позади письменного стола, над креслом, – словом, там, где в чиновничьих кабинетах обыкновенно висит портрет президента, а в офисах успешных бизнесменов красуется какая-нибудь купленная за бешеные деньги абстрактная мазня, – висели электрические часы. Они были нарочито простыми, а главное – очень крупными, так что разглядеть циферблат и стрелки во всех подробностях мог даже человек с очень слабым зрением. А по громким, отчетливым щелчкам, с которыми черная секундная стрелка перескакивала от деления к делению, всякий должен был понять, что попал в место, где привыкли дорожить каждым мгновением. Часы были напоминанием о том, сколько стоит время Александра Антоновича. «Время – деньги» – таков девиз любого банкира, и Гронский не был исключением из общего правила. Его радушная улыбка в сочетании с недвусмысленным щелканьем отсчитывающих секунды часов, как правило, помогала посетителям собраться с мыслями, настроиться на спокойный, деловой, конструктивный лад и коротко, сжато и исчерпывающе изложить свое дело, не отвлекаясь на пустопорожнюю болтовню.
Дверь открылась, и Гронский без сожаления прервал созерцание гранитной набережной, вместе с креслом развернулся к столу, поставил чашку на блюдце, а блюдце на стол и поднялся навстречу вошедшему, привычно включив свою неотразимую голливудскую улыбку.
Строго говоря, посетитель вовсе не стоил того, чтобы такой человек, как Александр Антонович Гронский, при виде его отрывал от кресла свой зад. Прозвучавшая во время телефонного разговора ссылка на их давнее знакомство показалась Гронскому сомнительной: имя звонившего ровным счетом ничего ему не сказало. Теперь, однако, он вспомнил этого молодого прощелыгу без определенных занятий, с дорогостоящими привычками и замашками выскочки. Человечишка он был никчемный, не представляющий ни малейшего интереса с деловой точки зрения, и Александр Антонович, продолжая улыбаться, приготовился вежливо и быстро выставить его за дверь.
Пожав Крестовскому руку и указав на кресло для посетителей, Гронский уселся сам.
– Как поживаете? Все еще играете в преферанс у Бородича? – с улыбкой осведомился он, давая посетителю понять, что прекрасно его помнит.
Крестовский выдавил из себя подобие ответной улыбки. Он старался держаться молодцом, но опытный глаз банкира безошибочно улавливал в каждом его движении признаки сильного внутреннего волнения. Несомненно, Крестовский явился сюда не просто так, поболтать (да и с чего бы это вдруг?), а по какому-то важному, с его точки зрения, делу. Волнуется, мнется – значит, пришел с просьбой. А что, кроме денег, можно просить у банкира?..