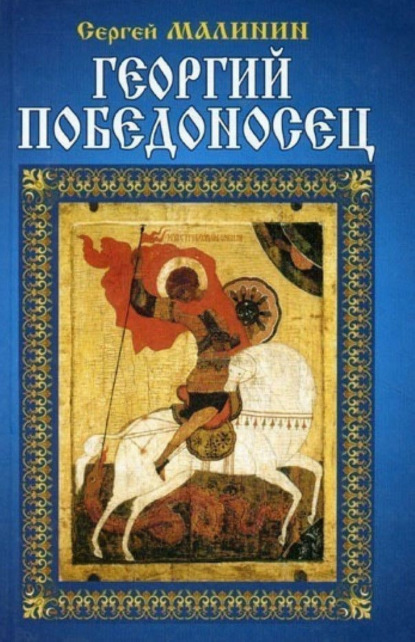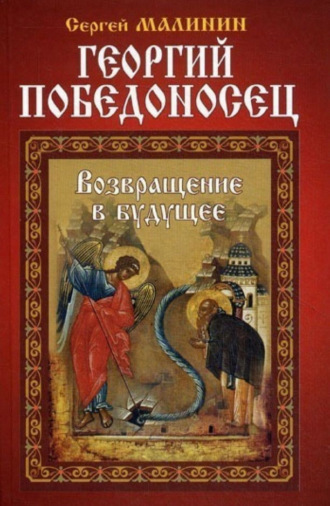
Полная версия
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее

Сергей Малинин
Георгий Победоносец. Возвращение в будущее
Глава 1
Взмахнув широкими крыльями, старый ворон поднялся в ясное утреннее небо, в несколько мощных взмахов набрал высоту и стал медленно описывать круги в наливающемся дневной синевой поднебесье, озирая свои охотничьи угодья в поисках добычи. Мелкие лесные пичуги, что уже начали пробовать голоса, славя приход дневного светила, испуганно умолкали, заметив беззвучно скользящий в высоте смертоносный чёрный крест. Ворон парил в вышине, ловя распахнутыми крыльями восходящие воздушные потоки, и почти не обращал внимания на испуганную птичью суету внизу: он искал иную, куда более богатую и лакомую добычу, которую ему частенько оставляли на обочинах дорог, в полях и на опушке леса странные и нелепые бескрылые существа, именующие себя людьми.
Вскоре такая добыча обнаружилась. Углядев с высоты крохотную прогалину в густом сосновом бору, ворон снизился, описывая сужающиеся круги. Его взору предстала знакомая картина: круг седой золы посреди прогалины, в центре которого чернели остывшие головешки, мирно щиплющая траву лошадь и распростёртое на траве поодаль от кострища недвижимое тело. Ворон каркнул, на свой манер славя Бога, который в последнее время был к нему щедр, и спикировал на прогалину.
Разбуженный его скрипучим криком человек шевельнулся, откинул попону, которой укрывался от ночного холода и утренней росы, и сел, широко зевая и протирая кулаком заспанные глаза. Ворон снова каркнул, на сей раз с явным разочарованием, и забил крыльями, набирая потерянную высоту.
– Пся крэв, – проворчал человек, отлично понявший, чего хотел от него старый падальщик, и, в последний раз длинно зевнув, поднялся на ноги.
Солнце ещё не показалось над макушками деревьев, и трава на поляне была седой от мелких капелек росы. Запахнув потёртый, видавший виды кунтуш и зябко ёжась от утреннего холодка, человек присел на корточки у кострища и принялся раздувать угли. Невесомый пепел взлетел белёсым облачком, среди золы и чёрных головешек зарделся не до конца погасший жар. Положив на тлеющие угли кусочек бересты и несколько заранее припасенных хворостинок, человек подул сильнее. Над кострищем тонкой струйкой поднялся белый дым, и вскоре на поляне, распространяя вокруг живительное тепло, уже горел небольшой костерок.
Согрев озябшие ладони, человек подержал над огнём оставшийся от вчерашнего ужина кусок зайчатины и торопливо перекусил, заедая мясо чёрствым хлебом и запивая плескавшейся в плоской кожаной фляге водой. Трапеза получилась скудная, прямо-таки монашеская, но человека это не опечалило: цель путешествия была близка, и он знал, что ещё до наступления вечера поест вдоволь и выпьет столько вина, сколько сумеет в себя влить.
Кое-как утолив голод, он затоптал костёр, подпоясался широким кушаком, перекинул через плечо перевязь сабли и, бормоча ласковые слова, водрузил на спину гнедой лошади седло, которое уже много ночей подряд служило ему изголовьем. Затянув подпругу, путник перекинул через лошадиную холку тощую перемётную суму, из которой с обеих сторон красноречиво торчали рукоятки дорогих фряжских пистолей, и одним ловким, непринуждённым движением бывалого наездника взлетел в седло. Сабля в потёртых ножнах негромко лязгнула о стремя; всадник оправил перевязь, двумя привычными плавными движениями разгладил пышные, свисавшие подковой усы, с неудовольствием потёр заросший многодневной рыжеватой щетиной подбородок и толкнул коленями лошадиные бока.
Отдохнувшая лошадь бежала резво, будто, как и седок, торопилась поскорее закончить долгое путешествие и очутиться в родной конюшне, перед кормушкой, полной отборного овса. Над верхушками деревьев показался краешек солнца, и лежавшая на траве и листьях роса засверкала, словно кто-то рассыпал по лесу неисчислимое множество бриллиантов. Одинокого всадника все эти красоты оставили равнодушным, ибо он был сыт ими по горло и хотел лишь поскорее сменить синий купол небес над головой на прочную тёсовую крышу, а пропахшую конским потом попону и жёсткое седло под головой – на мягкую постель. Общество верного скакуна, сколь бы приятным оно ни было для старого рубаки, после продолжительной поездки стало сильно уступать в его глазах обществу экономки – пусть уже немолодой и весьма ворчливой, но всё-таки женщины, а не бессловесной скотины, которая только и умеет, что фыркать, ржать да хрустеть овсом.
Долгое путешествие осталось позади, и это радовало всадника, хотя поездка, увы, получилась напрасной, не принеся желанного результата. Вместо тугого кошеля, под завязку набитого золотом, всадник вёз домой лишь короткую, запечатанную восковой печатью грамоту да ещё более краткое словесное послание, в коем не содержалось ничего утешительного или хотя бы обнадёживающего. Впрочем, всё это были не его заботы; преодолев множество опасностей и преград, он выполнил порученное дело, и в том, что дело сие кончилось ничем, не было его вины. Уже одно то, что, проделав такой долгий и опасный путь, он возвращался живым и невредимым, казалось чудом и могло быть поставлено ему в заслугу. А если хорошенько подумать, приходилось признать, что, будь при нём вместо никому не нужного бумажного свитка тугой кошель, его шансы на возвращение были бы невелики – во всяком случае, намного меньше, чем теперь, когда все находившиеся при нём ценности исчислялись немолодой лошадью, парой пистолей, саблей, потёртым кунтушом да стоптанными сапогами. В порубежных землях вдоль зыбкой, всё время меняющейся границы между Речью Посполитой и владениями московского царя Фёдора Иоанновича, давно уже стало неспокойно. Тут водились хищники пострашнее ворона, который разбудил путника на рассвете, и, чтобы проехать через эти места, сохранив имущество и жизнь, требовалась не только изрядная сноровка, но и большая удача.
К тому времени, когда солнце высушило росу, вековой сосновый бор остался позади, и путник выехал на открытое, слегка всхолмленное пространство с ярко-зелёными заплатами возделанных полей и беспорядочно разбросанными купами деревьев. Вдали показались и стали медленно приближаться островерхие, увенчанные четырёхконечными крестами башни костёла, а вскоре стали видны и соломенные крыши деревушки, приютившейся у подножия устремлённого в небо каменного исполина. По сторонам дороги начали попадаться занятые полевыми работами крестьяне. Те, что оказывались ближе к дороге, при появлении всадника бросали работу и, стащив с кудлатых голов шапки, низко ему кланялись: его в здешних местах хорошо знали, да и экипировка его прямо указывала на принадлежность к дворянскому сословию. Правда, кое-где видневшиеся на кунтуше и даже на сапогах прорехи и заплаты столь же прямо, без обиняков, говорили о плачевном состоянии, в коем пребывали финансовые дела пана Тадеуша Малиновского; увы, он относился к той немалочисленной разновидности однодворной загоновой шляхты, о представителях которой мужики, посмеиваясь в усы, говорили: «Паны – на двоих одни штаны; кто первый встал, тот и надел». Дед пана Тадеуша был пожалован шляхетским званием за добровольное участие в одной из многочисленных военных кампаний того времени; обретя дворянскую честь, ни он, ни его потомки, увы, не стяжали богатства, и жить им приходилось плодами собственных трудов, с чего, как известно, особенно не разживёшься.
Ныне пан Тадеуш возвращался из долгого и опасного путешествия в самое сердце Московского государства, куда был послан владетелем здешних мест, паном Анджеем Закревским. У пана Анджея было частное дело к тёзке, русскому князю Андрею Басманову; для улаживания оного дела пану Анджею потребовался верный, сметливый и храбрый гонец, на роль которого пан Тадеуш Малиновский годился как никто иной: он не единожды сходился с московитами лицом к лицу в лихой сабельной рубке, а однажды провёл у них в плену полных два года, будучи вместе с иными военнопленными отпущен домой царем Фёдором Иоанновичем в день его помазания на российский престол.
За два года пан Тадеуш успел недурно овладеть русской речью, так что лучшего посланника пану Закревскому было не найти. Правда, как уже было сказано, миссия пана Тадеуша не увенчалась успехом, но его вины в том не было ни капли: там, где он не преуспел, кто-то другой может быть и вовсе сложил бы голову. Свежие зазубрины на лезвии сабли и простреленная пулей пола кунтуша служили тому наилучшим подтверждением, коего, впрочем, от него и не требовалось: пан Анджей был дружен с паном Тадеушем с младых ногтей и доверял ему, как себе.
Торопя коня, пан Тадеуш проехал мимо поворота на просёлок, который вёл к его наследственному имению, представлявшему собой обыкновенный и притом далеко не богатый хутор. Повернув голову, всадник бросил взгляд на маячившее в отдалении тёмное облако зелени, обозначавшее росший на хуторе фруктовый сад, и облизнул пересохшие губы, вспомнив об ожидающем его в холодной кладовке бочонке доброго вина. Вслед за вином на ум вполне естественным порядком пришли жареный каплун и сочащийся прозрачным жиром, покрытый аппетитной золотистой корочкой свиной окорок. В животе у пана Тадеуша заурчало, рот наполнился слюной, и он подхлестнул усталую лошаденку, торопясь поскорее покончить с делами, чтобы ещё до заката попасть домой.
* * *Князь Андрей Иванович Басманов, пригнув голову в низком дверном проёме, переступил порог и вошёл в горницу дочери. Невзирая на немолодой уже возраст, князь всё ещё сохранял прямую осанку и гордый разворот широких плеч, более приличествующий воину, нежели убеленному сединами государственному мужу. Впрочем, седины в бороде и волосах князя Басманова было не так уж и много, да и долгим разговорам в Большой палате Кремлевского дворца он, как и прежде, предпочитал лихую рубку в чистом поле. Следствием этого была порой излишняя прямота и резкость суждений и поступков; князь Андрей был твёрд и надёжен, как булатный клинок, и, как лезвие булатного меча, лишен гибкости.
Эти качества, весьма похвальные для простого воина, не всегда встречают должное понимание при дворе; за два года до смерти царя Ивана Васильевича, недаром прозванного Грозным, князь Басманов впал в немилость, был подвергнут опале и сослан в Нижний Новгород, откуда вернулся лишь с воцарением на российском престоле Фёдора Иоанновича. Борис Годунов, без совета которого государь ныне не мог ступить и шагу, неизменно являл к Андрею Ивановичу благосклонность. Благосклонность эта князю изрядно претила, ибо исходила от человека, коего он всегда считал худородным выскочкой, утвердившимся подле государева трона на сложенной из голов родовитых бояр кровавой пирамиде, однако ж, наученный горьким опытом, мнение своё держал при себе, не делясь им ни с кем, даже со своими домочадцами. К тому же, почитая пользу государства Российского превыше своей собственной, князь признавал, что, как ни плох Годунов, без него, верно, было б ещё хуже.
Накануне князь имел с боярином Годуновым долгий разговор с глазу на глаз. Разговор этот был у них не первый и даже не второй, и речь в этот раз, как и во все предыдущие, шла всё об одном и том же. Боярин, как всегда, многословно сетовал на бесчинства поляков, кои не прекращали разорительных набегов на окраинные земли государства, чиня тем немалый вред, и явно готовились развязать новую большую войну, старательно вербуя союзников в Европе. Давний недруг России, Швеция, была на их стороне; островная Англия, хоть и предпочитала честную торговлю войне, находилась чересчур далеко и вовсе не стремилась лезть в драку, а Германия уже который десяток лет колебалась, не зная, чью сторону принять. В этом смысле, говорил боярин Годунов, желание одного из членов императорской семьи связать себя узами брака с равной себе по происхождению русской княжной можно считать истинным Божьим даром, ибо брак сей, несомненно, склонит чашу весов в сторону России.
Оспорить рассуждения боярина было трудно, да князь и не видел смысла их оспаривать: поляки действительно наседали, и женитьба двоюродного брата императора Фердинанда на благонравной девице старинного русского рода, если и не могла принести великой пользы, раз и навсегда смирив злокозненных ляхов, то и вреда не нанесла бы. Дело, с какой стороны на него ни посмотри, затевалось благое; это князь Андрей Иванович понимал хорошо и спорить с этим не собирался. Непонятно было иное: почему для сего благого дела избрали именно его дочь, княжну Ольгу, а не иную какую-нибудь девицу? Нешто мало на Руси незамужних боярышень да княжон?
Однако же это, единственное, возражение было не совсем того рода, кои стоит приводить в разговоре о делах государевых, а вернее – совсем не того. Ведь, ежели подумать, дочери князя, а стало быть, и ему самому, оказали великую честь. Не всякому выпадает сослужить государю верную службу, и никто не вправе от оной отказываться. Мужчине пристало служить отечеству на поле брани, и это, между прочим, никого не удивляет: на то он и муж, чтоб, если понадобится, сложить голову за царя и святую Русь. И верно говаривал покойный царь Иван Васильевич, что для пользы государства не должно жалеть ни жены, ни мужа, ни отца с матерью, ни детей своих. Вот и сын его, Фёдор Иоаннович, вослед за отцом, а паче того, за боярином Годуновым то же неустанно повторяет. И как ты им возразишь? Как скажешь: не отдам, мол, дочку замуж в чужую сторону? Такие слова изменой попахивают!
Так вот, начав с общих рассуждений о благе государства и выгодах, которые можно было б извлечь из брака княжны Ольги Басмановой с кузеном императора Фердинанда, Карлом Вюрцбургским, боярин Годунов вдруг огорошил Андрея Ивановича вестью, которая ему, боярину, представлялась благой: накануне вернулся отправленный к императору Фердинанду с посольством боярин Толубеев и, помимо всего прочего, привёз грамотку от молодого герцога Вюрцбургского. Герцог писал, что очарован прелестями и кротким нравом княжны Басмановой, кои столь живо описал ему боярин, и готов хоть сию минуту взять её в жены.
Андрей Иванович сильно подозревал, что молодой герцог прельстился не столь красотой, молодостью и добрым нравом юной княжны, сколь богатым приданым: как ни крути, а золото лишним не бывает. Видно, и кузен его, император Фердинанд, поразмыслив, молвил слово в пользу этого брака, так что дело сие можно было считать решённым, и не князю Басманову, единственно милостью государя Фёдора Иоанновича возвращённому из ссылки, было противиться царской воле. А коли сам князь не мог тому противиться, так дочери его, княжне Ольге, покорствовать сам Бог велел.
Словом, умом князь Басманов понимал всё очень хорошо, но отцовское сердце всё едино ныло, предчувствуя скорую разлуку. С тех пор как сын его, княжич Иван Андреевич, был убит стрелой в бою со свейскими ландскнехтами, дочь стала для князя единственным светом в окошке. И теперь, когда княжна Ольга нежданно-негаданно сделалась заложницей большой политики, Андрей Иванович горько сожалел о том, что не выдал её замуж раньше. Ведь были женихи, и недурные! А он всё перебирал: тот худого рода, этот небогат и, по всему видать, охотится за приданым, а иной собою нехорош… На самом-то деле, конечно, виноваты были не женихи, а он сам: жалко было дочь, последнюю родную кровиночку, в чужой дом отдать, хотелось оттянуть разлуку хотя б ещё на год-другой. Эх, кабы загодя знать, как оно обернётся! Давно б уж замужем была и горя не ведала. А ныне что? Увезут за тридевять земель, и свидеться, поди, уж не доведётся. Да ещё перекрестят в нечестивую лютеранскую веру, а это всё равно, что родную дочь вдругорядь потерять…
Посему, входя в светёлку дочери, князь пребывал далеко не в лучшем расположении духа. Однако при виде княжны, которая, сидя на лавке у окна, занималась, по обыкновению, вышиванием, глубокая морщина меж бровей Андрея Ивановича разгладилась, а губы под пышными усами тронула тень улыбки. Княжна Ольга и впрямь была хороша – хороша настолько, что для того, чтоб ею восхищаться, вовсе не обязательно было состоять с нею в родстве. Падавший через слюдяное оконце полуденный свет мягко переливался на заплетённых в тяжёлую косу волосах и золотил нежный пушок на обращённой к окну щеке. Подняв голову, княжна увидела отца и, отложив пяльцы, низко ему поклонилась. Просторный, богато вышитый сарафан не мог скрыть гибкости девичьего стана; заплетённая синей атласной лентой коса, соскользнув с плеча, коснулась чисто вымытого, выскобленного добела пола.
Подойдя к дочери, князь поцеловал её в лоб, усадил обратно на лавку и, присев рядом, завёл разговор издалека, прямо как боярин Годунов давеча говорил с ним самим, – о том, что на семнадцатом году девице, поди, скучно день-деньской сидеть за пяльцами да слушать глупые пересуды мамок и горничных, а ещё о том, что Божий свет велик и зело предивен, и что княжне, верно, было б любопытно поглядеть, что в сём свете деется.
Княжна слушала его с почтительным вниманием, как и подобает благонравной, воспитанной в надлежащей строгости девице, а дослушав, мягко заперечила, сказавши, что сидеть за пяльцами ей нисколечко не наскучило, и что, сколь бы ни был дивен Божий свет, лучшего места для себя, чем отчий дом, она не чает.
Такой ответ, сколь ни был лестен для князя, ныне его не устраивал. Крякнув и с неловкостью кашлянув в кулак, он напрямую перешёл к делу, которое ему самому было едва ли не более неприятно, чем княжне.
– Что ж ты, душа моя, – с шутливым укором молвил он, – так и чаешь до старости в девичьей светёлке с шитьём просидеть? Неужто замуж не хочется?
– Замуж-то, поди, всем охота, – слегка зардевшись, ответила княжна Ольга. – А только как же я тебя, батюшка, одного-то оставлю?
Князь вздохнул. То-то и оно!
– А как же иначе-то? – сказал он. – Так исстари заведено, чтоб птенцы, оперяясь, родное гнездо покидали. Сколь яблочку наливному на ветке ни висеть, а не миновать на землю пасть. И куда оно укатится, то одному Богу ведомо…
Сказав про яблочко, что может укатиться далеконько от родной яблоньки, князь спохватился, что сболтнул лишнего. Однако княжна, казалось, не заметила его оговорки.
– Нешто жених для меня сыскался? – потупив взор, чуть слышно спросила она.
– Сыскался, – кивнул князь. – Да какой жених-то! Ей-богу, лучший и во сне не приснится! Истинно, королевич.
– Королевич?
Уловив в голосе дочери беспокойные, тревожные нотки, Андрей Иванович уже не в первый раз отметил про себя, что княжна не только красна собою, но и умна да сметлива – пожалуй, даже чересчур сметлива для воспитанной в строгих правилах девицы, коей не подобает вникать в мужские дела. Из всего разговора она мигом выделила главное, ключевое слово – «королевич», намекавшее на иноземное происхождение жениха. И сейчас же подумалось, что боярин Годунов, по всему видать, неспроста остановил свой выбор именно на ней, надеясь, может статься, на то, что со временем Ольга станет вертеть своим Карлом Вюрцбургским, как захочет, по его, Бориса Годунова, подсказке.
– Ну, не так, чтоб совсем уж королевич, – с улыбкой кладя на голову дочери большую ладонь, молвил князь, – но вроде того. Ландграф Вюрцбургский, Карлом звать.
– Карлой? – испугалась княжна Ольга.
Андрей Иванович усмехнулся. Этак же хотелось пошутить и ему, когда впервой услыхал имечко будущего зятя, да пришлось сдержаться: разговор у них с боярином Годуновым шёл не шутейный, а за приоткрытой на два пальца дверью в соседнюю палату почти наверняка скрывался, подслушивая, посланник императора Фердинанда, ежели не сам царь Фёдор Иоаннович.
– Не карла, а Карл, – продолжая улыбаться, хотя внутри всё так и ныло, ровно больной зуб, от близости неминуемой и, по всему видать, вечной разлуки, поправил князь. – На карлу даже и не похож. И рода высокого, императорского, и собою хорош. Да вот, гляди, это он тебе передал.
С этими словами князь извлёк из привешенного к поясу шитого бисером кожаного кошеля тонко сработанный золотой, изукрашенный каменьями медальон на затейливой цепочке, нажатием кнопки отомкнул хитрый пружинный замочек немецкого дела и показал дочери спрятанный внутри миниатюрный портрет белокурого молодого человека с воинственно закрученными усами и остроконечной бородкой. Шею Карла Вюрцбургского охватывал, намекая на ратную доблесть, кольчужный воротник, а ниже виднелось зерцало воронёных лат.
Сколь ни был хорош собою изображённый на портрете ландграф Вюрцбургский, при виде его глаза княжны наполнились слезами: она хорошо поняла значение медальона. Сделанный ландграфом дорогой подарок говорил о твёрдости его намерения жениться, а то, что отец принял сей о многом свидетельствующий дар, означало, что и у него уж всё решено окончательно и бесповоротно.
Где находится Вюрцбургская земля, коей предстояло отныне сделаться её родиной, княжна представляла лишь в общих чертах, но и того было достаточно, чтобы понять: это очень далеко, и, покинув отчий дом, она сюда уже вряд ли когда-нибудь вернётся.
Сделав вид, что не заметил двух влажных дорожек, которые пробороздили побледневшие щёки дочери, князь продолжил многословно, то шутливо, а то всерьёз, расписывать достоинства иноземного жениха. Слёзы, особенно женские – просто солёная вода. Сколь ни плачь, а дела тем не поправишь, и плох тот муж, что в поступках своих руководствуется не голосом разума и соображениями государственной пользы, а болью растревоженного женскими слёзами сердца. Андрей Иванович знавал людей, ступивших на эту скользкую стезю. Все они плохо кончили – одни, отойдя от дел, были скоро забыты, и имена их превратились в пустой звук, иные ж и вовсе сложили головы на плахе, ибо нет более верного пути к лобному месту, чем в мужских делах следовать бабьим советам.
Мысль эту князь также развил перед дочерью – правда, не столь прямо и жёстко, а с надлежащей в подобных делах иносказательной мягкостью. Дочь, как обычно, поняла его вполне и даже не пыталась противиться, спросив лишь, когда надобно ехать.
– Да через недельку, мнится, и тронешься, – сказал на это князь таким тоном, будто речь шла о поездке из Москвы в загородное имение.
– Так скоро? – на сей раз по-настоящему испугалась княжна.
– Да что ж тянуть-то? – так же искренне отвечал князь Басманов. – Тяни не тяни, а чему быть, того не миновать. Да и правильно говорят: долгие проводы – лишние слёзы.
Сказав так, князь поспешно покинул светлицу и, никого более не желая видеть, заперся в своих покоях. Странно, но, отдавая в тот вечер дань зелену вину с собственной винокурни, Андрей Иванович думал почему-то не столько о дочери и скорой с ней разлуке, сколько о гонце, коего несолоно хлебавши отправил восвояси недели полторы назад. Теперь этот поступок уже не казался ему столь же разумным, как тогда, ибо сулил одинокую старость без утешения и поддержки, а главное, скорый конец княжеского рода Басмановых.
Вслед за мыслями о гонце на ум пришли воспоминания об иных, давних делах, и, сколь ни пытался князь их прогнать, воспоминания эти терзали его до тех пор, пока он не уснул, вконец измученный тяжкими, тревожными думами.
* * *К сложенному из толстых дубовых брусьев старательно оштукатуренному и выбеленному дому пана Анджея Закревского вела посыпанная чистым песком липовая аллея, что кончалась «кругом почёта» перед парадным крыльцом. В центре этого круга красовалась клумба, запущенный вид которой предательски выдавал состояние финансов пана Анджея. То был ещё не полный упадок, но близость упадка, который казался неизбежным, если только Господь в неизъяснимой милости своей, вняв горячим молитвам пана Закревского, не взял бы на себя труд неким чудесным образом поправить его дела.
Каменное крыльцо украшал портик с деревянными колоннами, сделанными на манер античных, но из-за неумелости строителей, не знавших древнего секрета, казавшимися слегка пузатыми. Дерево колонн растрескалось, краска с него местами облезла, а кирпичные ступени истёрлись так, что зимой по ним стало опасно спускаться – того и гляди, поскользнёшься и со всего маху ахнешься затылком о стылый камень. Под крышей портика свили гнездо ласточки. Сейчас гнездо, являвшее собою ком скреплённой птичьей слюной грязи, пустовало, и из него, покачиваясь на ветру, печально свисали длинные сухие травинки.
Подъехав к крыльцу, пан Анджей, как всегда, бросил на гнездо недовольный взгляд и подумал, что сие сомнительное украшение надобно непременно убрать, и чем скорее, тем лучше. Однако, спешившись и отдав поводья подбежавшему конюху, он немедля забыл о гнезде, как это случалось с ним постоянно. Такая забывчивость объяснялась просто: пану Анджею было жаль ласточек, которые, вернувшись будущей весной из теплых краев, были бы вынуждены вить новое гнездо. Да и забот помимо какого-то гнезда у него хватало с лихвой. Пан Анджей отчаянно нуждался в деньгах, коих ему вечно недоставало – не потому, что он был игрок, кутила или такой уж скверный хозяин, а потому лишь, что так сложились обстоятельства. Помимо былой славы и родовой чести, предки оставили ему в наследство только сильно уменьшившееся поместье, которое после раздачи отцовских долгов сделалось ещё меньше. Теперь его едва хватало на то, чтоб худо-бедно прокормиться; о том же, чтобы обеспечить достойное будущее сыну, думать ныне едва ли приходилось. Оставалась надежда на удачное замужество дочери, однако и тут существовали препятствия, числом три, и звались те препятствия дочерьми соседа пана Анджея, графа Вислоцкого – Эльжбетой, Марией и Анной.