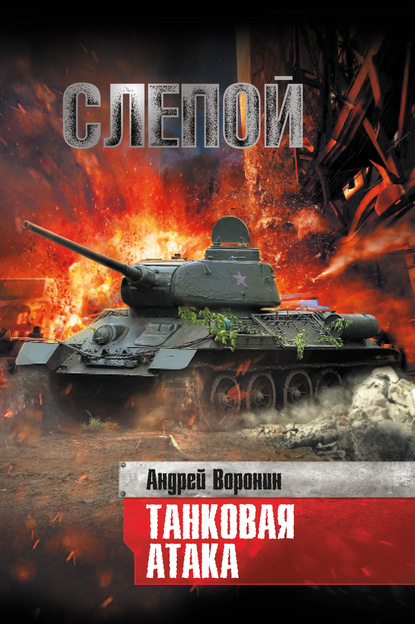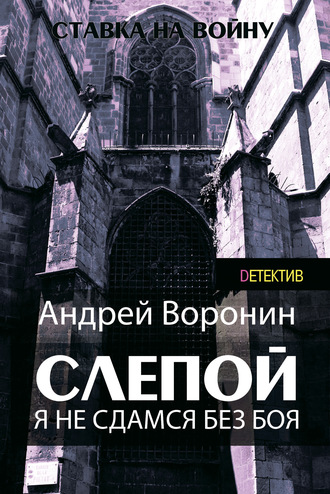
Полная версия
Слепой. Я не сдамся без боя!

Андрей Воронин
Слепой. Я не сдамся без боя!
© Харвест, 2010
Глава 1
За окном, чуть слышно шелестя в листве высоких берез и изумрудной траве газона, отвесно падал на землю подсвеченный выглянувшим из-за туч солнцем грибной дождь. Его капли сверкали на лету, как нити стеклянных бус; мокрые кроны старых деревьев блестели, как лакированные, газон казался усеянным миллионами лучистых бриллиантов, как будто некий сказочный богач, споткнувшись, рассыпал здесь свою сокровищницу. Над лесом встала радуга, до которой, как в детстве, хотелось добежать, шлепая по лужам босыми ногами, чтобы потрогать ее рукой.
Человеку, что стоял у окна и смотрел, как идет дождь, отчего-то подумалось, что он уже много лет – да нет, пожалуй, уже не лет, а десятилетий – не бегал босиком по траве. Даже на пляжах дорогих морских курортов, вставая с лежака, суешь ноги в шлепанцы, да и откуда на каком-нибудь Бали или Гавайях взяться нашей, российской, шелковистой муравушке? Носиться босиком по стриженым английским газонам в его возрасте уже не принято, а если бы даже он на это и отважился, удовольствие все равно получилось бы не то. Он все время помнил бы, как выглядит со стороны – высокий, под два метра, статный, уже начавший понемногу грузнеть и дрябнуть, без малого пятидесятилетний мужчина со значительным лицом человека, привыкшего к беспрекословному повиновению окружающих и исполненного сознания своей немаловажной роли в судьбе государства Российского. И вот, вообразите, такой персонаж вдруг принимается с идиотским хохотом бегать туда-сюда по старательно ухоженному газону, увертываясь от струй садовых разбрызгивателей, оскальзываясь на мокрой траве и размахивая руками! Первое, что придет в голову окружающим, это что он хватил лишнего в баре, второе – что сошел с ума… То есть, первым делом они вызовут полицию, а уж потом, когда все так или иначе утрясется, станут сдержанно судачить о причинах странного происшествия. А может, и не станут: коль скоро речь идет о русском, удивляться нечему, а значит, не о чем и говорить, русский – он и есть русский, от них еще и не такого можно ожидать…
Поймав себя на том, что уже мысленно подбирает слова, которыми станет объяснять свое странное поведение гавайским полицейским, и представляет, какими глазами они будут на него при этом смотреть, человек у окна с силой провел ладонью ото лба к подбородку, собрав лицо в горсть. Он вздохнул, вытряхивая из пачки длинную темную сигарету с золотым ободком: какая только чушь ни придет в голову! И это, заметьте, в тот момент, когда надлежит быть предельно собранным и думать только о деле.
А впрочем, что о нем теперь думать? Настал такой момент, когда думать уже поздно, да и предпринять ничего, помимо того, что уже предпринято, нельзя. Все уже придумано и сделано, остается только ждать вестей. А когда новости появятся, вот тогда и настанет время думать дальше и принимать решения в зависимости от того, как, в чью пользу сложится обстановка…
Телефон, что лежал на широком подоконнике, вдруг засиял всеми огнями, басовито зажужжал и боком, по дуге, пополз по гладкой поверхности к краю. Его хозяин, вопреки обыкновению, торчал без дела у окна и любовался грибным дождем уже битых полчаса, так что на подоконнике, под рукой, лежало все, что могло ему понадобиться: оба телефона, городской и мобильный, пачка сигарет, пепельница, зажигалка, очки и еще кое-что на всякий пожарный случай.
Не торопясь отвечать на вызов, он спокойно откинул крышечку зажигалки, крутанул колесико и прикурил, окутавшись медвяным дымом настоящего вирджинского табака. Телефон продолжал жужжать и елозить, подбираясь все ближе к краю подоконника. Человек накрыл его ладонью, остановив это самоубийственное движение, нажал большим пальцем на клавишу с изображением зеленой телефонной трубки и отрывисто бросил в микрофон:
– Слушаю.
– Он умер, – прошелестела трубка ему на ухо безликим, лишенным интонаций голосом, по которому трудно было определить, мужчина говорит или женщина. – При обстоятельствах, не исключающих возможности самоубийства.
– Если верить всему, что о нем говорят, самоубийство для него – самый легкий выход, – не удержавшись от ненужного комментария, заметил он. – Может быть, даже единственный.
– Какие будут указания? – после коротенькой почтительной паузы осведомился голос в трубке.
– Ждать и быть наготове, – ответил он. – Вплоть до особого распоряжения.
– Есть ждать и быть наготове, – продублировал телефонный голос полученный приказ и дал отбой.
Человек у окна глубоко затянулся сигаретой. Умерший отправился в лучший мир почти на целые сутки позже, чем следовало бы. За это время он почти наверняка успел кое-что сказать. Возможно, сказано было многое, а может быть, даже все – все, что мог знать исполнитель, разумеется, но и этого было вполне достаточно для крупного скандала. Очень крупного! Впрочем, масштабы возможного скандала не имели особенного значения: тому, кто угодил под прямое попадание бомбы, безразлично, был это простой фугас или ядерный.
Другое дело, что мертвец уже не сможет повторить свои голословные показания в суде. Сами по себе его слова ничего не стоят, это понятно даже тем, кто эти слова из него выбил тем или иным (несомненно, достаточно жестким, официально находящимся вне закона) способом. Значит, никакого суда, никакого скандала не будет, а что будет, покажет время. Может, и ничего; может, все еще и обойдется.
До сих пор ведь обходилось, не так ли? Кроме того, проигранная битва вовсе не означает поражения в войне. А настоящая война еще толком и не начиналась; на смену погибшему исполнителю, каким бы отменным профессионалом он ни считался, всегда найдется другой, и не один. Будут новые бои, новые потери, но без этого невозможен прогресс. Более того, без труда, риска и крови не только не завоюешь новых высот, но и старые не удержишь. Это закон природы, а против нее, матушки, не попрешь…
Телефон, который он еще не успел донести до подоконника, снова зазвонил – вернее, зажужжал, поскольку хозяин по укоренившейся привычке даже дома оставлял его в режиме вибрации, весьма удобном для человека, львиную долю своего рабочего времени проводящего на различных заседаниях, совещаниях и планерках. Стоящий у окна непроизвольно вздрогнул, отметив про себя, что становится нервным и мнительным, как тургеневская барышня. Один взгляд на дисплей заставил тревожно забившееся сердце успокоиться: звонил сын, а это не сулило никаких неприятностей, помимо тех, что уже давно стали привычными.
Он не ошибся: едва успев поздороваться, отпрыск скрипучим, сварливым тоном осведомился, в честь какого праздника любимый родитель заблокировал все его кредитные карточки.
В сущности, карточки были не его, а отцовские (иначе как кто-то, кроме него, смог бы их заблокировать?), но человек у окна не стал лишний раз сотрясать воздух, произнося вслух то, о чем оба и так отлично помнили.
– Это какая-то ошибка, – сказал он, точно зная, что ни о какой ошибке не может быть и речи. – Наверное, терминал неисправен.
– Это ты неисправен, – весьма непочтительно заявил отпрыск. – Опять у тебя в голове что-то замкнуло… Не понимаю, честное слово, чем я тебе на этот-то раз не угодил?!
Человек у окна немного помолчал, играя каменными желваками на скулах и сжимая телефонную трубку с такой силой, что побелели суставы пальцев. Только этих разборок в песочнице ему и не хватало для полного счастья! Оболтусу двадцать семь лет, а он все еще закатывает истерики родителям, которые, как ему кажется, лишили его карманных денег.
– Повторяю, – произнес он ровным голосом, – это какое-то недоразумение. Я не блокировал твоих карточек. Может, ты опять нализался до полной потери памяти и все спустил в казино?
– Подчиненных своих контролируй! – почти провизжал сын. – Может, мне кровь на анализ сдать, чтобы ты поверил, что я вчера капли в рот не брал? У меня наличных осталось на двадцать литров бензина, а ты морали читаешь!
«Потрать эти деньги на хлеб», – хотел посоветовать счастливый родитель великовозрастного мажора, но снова сдержался – не из чадолюбия, а просто потому, что знал: его слова станут гласом вопиющего в пустыне.
– Хорошо, – сказал он, – я позвоню в банк и выясню, в чем дело.
– Уж будь так добр! – с огромным сарказмом изрек отпрыск и прервал соединение.
Некоторое время человек у окна стоял неподвижно и ожесточенно дымил сигаретой, борясь с раздражением. Дождь пошел на убыль, радуга над березовой рощей засияла ярче, играя цветами спектра, а потом начала тускнеть, превратившись в свой бледный призрак. На дворе стоял август – самая грибная пора. В лесу за каменным забором, что ограждал просторный участок, было полным-полно белых и подосиновиков, которые частенько попадались даже во дворе, вместе с уже начавшей разрастаться за баней крапивой опровергая клятвенные заверения ландшафтного дизайнера в том, что после окончания работ по благоустройству на участке не останется ни единой неучтенной, не запланированной заранее травинки.
Дождь кончился, и вместе с ним улетучилось раздражение. Солнце засияло в полную силу, в небе не осталось ни облачка. От выложенных цветной фигурной плиткой дорожек во дворе валил пар, у бордюров блестели на солнце мелкие прозрачные лужи, в которых корчились хорошо различимые даже со второго этажа утопленники – дождевые черви. Когда-то давным-давно, в полузабытом детстве, он, как и его сверстники, был уверен, что черви выползают из-под земли, радуясь дождю, и забираются в лужи потому, что им это нравится. В полном соответствии с этой теорией он не упускал случая, встретив на мокрой после сильного ливня дорожке дождевого червя, поддеть его прутиком и бросить в ближайшую лужу. Потом ему объяснили, что черви выбираются наружу, спасаясь от заливающей их извилистые подземные ходы влаги, и что в лужи они попадают случайно – слепые и безмозглые, ползут, не разбирая дороги, и оказываются в смертельной западне. И корчатся они в лужах вовсе не от удовольствия, как ему когда-то представлялось, а от удушья…
На какое-то мгновение он ощутил себя дождевым червем, предсмертные корчи которого никому не видны, но оттого не менее мучительны. Заблокированные кредитки сына были весьма красноречивой деталью, означавшей, во-первых, что покойник перед смертью успел-таки многое рассказать, а во-вторых, что слова его все-таки были приняты к сведению. К счастью, у жены, которая в данный момент опустошала бутики и осчастливливала своим присутствием пляжи самых дорогих курортов старушки-Европы, был собственный банковский счет и свои кредитные карты. Дела это не меняло, но избавляло, по крайней мере, от еще одного телефонного скандала.
Усилием воли отогнав посторонние мысли, он потушил сигарету. Нужно было действовать, и действовать быстро – не звонить в банк, естественно, а просто уносить ноги, благо наличных у него было как-нибудь побольше, чем на двадцать литров бензина, и далеко не все его счета были открыты в банках, которые сдают своих клиентов, как стеклотару, по одному звонку из известного учреждения.
К побегу все было давным-давно готово – даже собранный чемодан лежал на кровати в спальне, дожидаясь, когда его оттуда возьмут. На спинке кресла рядом с письменным столом висел цивильный пиджак, карманы которого были набиты деньгами и документами, «мерседес» с залитым под пробку баком скучал в гараже. Говоря по совести, бежать нужно было еще позавчера, когда стало известно об аресте исполнителя, но он почему-то медлил – не то стеснялся чего-то, не то на что-то рассчитывал. А может быть, просто не хотел, полагая бегство бессмысленным?
Пожалуй, верно было последнее. Побег означал спокойную, сытую жизнь вдали от России, пламенным патриотом которой он себя считал. Высокие словеса? Пафос? Да ничего подобного! Пафос – это когда о своем патриотизме кричит склонный к бытовому пьянству и дешевому фрондерству интеллигентишка, неспособный принести пользу не только России, но даже и своей собственной семье. А когда человек упорно, целеустремленно, не щадя ни себя, ни других, всю жизнь трудится на благо своей страны – что это, если не патриотизм самой высокой пробы? И не впервые, увы, истинному патриоту приходится выбирать между изгнанием и смертью. И далеко не всегда его, патриота, преследуют враги России – неважно, внешние или внутренние. Просто общественное благо каждый понимает по-своему, и каждому видятся свои пути и способы достижения этого самого блага.
Он проиграл, спора нет. Но бегство равносильно признанию вины, а никакой вины он за собой не чувствовал. И потом, чего он не видел за границей? Ему еще нет и пятидесяти – пожалуй, рановато подаваться в бюргеры и коротать остаток дней за пивом и чтением газет. Судя по арестованным счетам, ему готовятся нанести удар. Этот удар надо отразить; надо выстоять, не сломаться, и тогда можно будет вернуться к привычной жизни человека, каждый шаг, каждый помысел которого направлен на благо России…
Он отошел от окна, случайно поймав краем глаза свое отражение в зеркальной двери стенного шкафа. Взъерошенная, побитая временем шевелюра, бледное лицо с темными кругами у глаз – красавец! Патриот, радетель о благе народном, спаситель России… Тьфу! Хоть бы себе самому не врал, если уж говорить правду другим не получается…
Повинуясь безотчетному порыву, он откатил в сторону дверцу шкафа. Дверца послушно отошла, мягко рокоча роликами по направляющим, и из неосвещенных, пахнущих дорогим одеколоном недр в глаза ему блеснул шитый золотом погон с тремя большими звездами. Он коснулся кончиками пальцев рукава, провел по колючим лучам генеральских звезд, словно пересчитывая, все ли на месте. Правда и ложь в этой жизни переплетены, перепутаны так тесно, что порой бывает невозможно отличить одно от другого. Он не хотел покоя; он хотел власти – вот она, правда, вся, как есть, до самого донышка. И что с того? Он кто – Мамай, Чингисхан, Гитлер? Бен Ладен какой-нибудь? Ничего подобного! Коренной русак из глубинки, из самого народного нутра – кровь от крови, плоть от плоти. И почему бы ему (пусть не единолично, пусть рука об руку с товарищами) не порулить этим громадным непотопляемым кораблем, имя которому – Россия?
Он вынул китель из шкафа, надел его, одернул лацканы и расправил перед зеркалом плечи. Гражданские брюки без лампасов, пара к тому самому пиджаку, что висел на спинке кресла рядом с рабочим столом, немного портили картину, как и отсутствие галстука с вытканным золотом двуглавым орлом, но сути эти мелкие детали не меняли.
Суть же заключалась в том, что всякому правителю свойственно стремление продержаться у власти как можно дольше. Мудрый правитель в наше время старается по мере возможности достичь этого мирным путем, через завоевание любви и уважения избирателей. А избиратель любит и уважает того, кто способен обеспечить ему максимально комфортное существование ценой наименьших усилий с его, избирателя, стороны. А если говорить об избирателе российском, так того, кого любит, ценит и уважает, он будет ставить во главе страны раз за разом, плюя на конституцию и прочие демократические вытребеньки, по принципу «не было бы хуже». То есть в наше просвещенное время человек, стремящийся удержать власть, должен денно и нощно печься о народном благе и всемерном процветании страны. Потому что в России на штыках и демагогической болтовне долго не продержишься – сметут, и правильно сделают. Заставлять народ нищенствовать и унижаться в такой богатой стране может только скопище жадных болванов, неспособных видеть дальше собственного носа, а болванам у власти не место – того и гляди, и впрямь погубят страну, будь она хоть трижды великая, могучая и богатая…
Мелодично позванивая медалями, среди которых было не так уж много юбилейных, он вернулся к окну. С крыши еще капало, капли сверкали на лету, как драгоценные камни в витрине ювелирного магазина, белесые космы пара стелились над бетонными дорожками и таяли; мир за окном был чисто умытый, радостный, сверкающий, как только что сошедшая с конвейера дорогая иномарка. Он напоминал идеальное представление о том, каким ему полагается быть, и, созерцая эту отрадную картину, было трудно поверить, что она – лишь тонкая пленка, вроде пелены изумрудной ряски, под которой скрывается бездонная гнилая трясина, готовая с сытым чавканьем поглотить дурака, сослепу принявшего ее за поросший шелковой травкой лужок.
Генерал снова потянулся за сигаретами. Он все еще медлил, будто чего-то ждал. И, как бывает почти всегда, когда ждешь неприятностей, он таки дождался.
За воротами, хорошо видный со второго этажа сквозь кованые чугунные завитки ограды, остановился черный «мерседес». Он подъехал, с шорохом и плеском разбрызгивая мелкие лужи, и остановился – с виду небрежно, где попало, а на самом деле с ювелирной точностью – так, чтобы разместившийся на заднем сидении пассажир, выходя, не ступил, упаси господи, в лужу.
Водитель, одетый в темно-серый костюм и демократичную черную рубашку без галстука, с расстегнутым воротом, выбрался из машины первым. Он был неопределенного возраста, со спортивной фигурой и короткой темной прической, слегка тронутой на висках ранней сединой. На переносице у него поблескивали темные солнцезащитные очки, а пиджак на левом боку оттопыривался так, словно этот парень носил в наплечной кобуре один из первых кремневых пистолетов или, наоборот, какой-нибудь бластер из фантастического боевика.
Он двинулся к задней дверце с явным намерением распахнуть ее перед пассажиром – без свойственного состоящим при высоком начальстве холуям в погонах подобострастия, а просто как воспитанный человек, уважающий старшего по возрасту и званию. Но толком проявить свое уважение ему не дали: дверца распахнулась, как от сильного порыва ветра, и пассажир без посторонней помощи выбрался наружу – среднего роста, сухопарый пожилой человек с обильно посеребренной, слегка поредевшей, но все еще густой шевелюрой, которую, не будь она такой короткой, так и подмывало бы назвать артистической. Одернув пиджак, он хмуро покосился на безоблачное ярко-голубое небо, как будто ожидая возобновления дождя, а то и налета вражеской авиации, и что-то сказал водителю. Тот кивнул, и оба посмотрели на окна особняка, за одним из которых стоял генерал в наброшенном поверх штатской рубашки парадном кителе.
Генерал-полковник знал старшего из гостей, как облупленного. Когда-то он даже пытался ему покровительствовать, обучая премудростям карьерного роста, но быстро охладел к своей затее: свежеиспеченный генерал оказался ярко выраженным представителем породы, на которой, по словам героя одного фильма, издревле держится Россия – честным дураком. С тех пор утекло много воды, несостоявшийся протеже генерал-полковника окреп и вошел в силу, хотя настоящей карьеры так и не сделал. За ним тянулась двусмысленная слава честного, неподкупного служаки, бессребреника, отличного профессионала и коллекционера скальпов, под которыми некогда скрывались могучие, изворотливые умы коллег-генералов, подающих большие надежды политиков и олигархов. С точки зрения генерал-полковника он был отменно натасканный цепной пес, палач на твердом окладе, начисто лишенный гибкости долдон, который, давно перешагнув рубеж пенсионного возраста, продолжал свято хранить верность усвоенным еще в школьной пионерской организации принципам и идеалам. Он, чтоб ему пусто было, тоже по-своему понимал благо государства Российского и всегда действовал в полном соответствии с этой своей трактовкой – безнадежно устаревшей, но неуязвимой для критики ввиду своей непрошибаемой верноподданности.
Генерал-полковник отлично понимал, что означает появление этого типа под окнами его загородного дома. Там, внизу, стоял Слепой Пью, доставивший герою Стивенсона черную метку. А сама черная метка, надо полагать, висела под пиджаком у щеголяющего в темных очках водителя, который из них двоих как раз таки больше всего и смахивал на слепого.
Эта мысль, как проникший в щель между двумя ветхими зданиями сквозняк, взвихрила мелкий мусор: обрывки мрачных слухов и легенд, клочки догадок, разрозненные воспоминания о событиях, эти догадки подтверждающих…
Весь этот сор разлетелся в разные стороны, обнажив голую, неприглядную, как грязная ноябрьская мостовая, истину. Теперь стало окончательно ясно, кто ухитрился вычислить и взять с поличным исполнителя. Финал этой драмы тоже был предельно ясен: коль скоро на сцене появилась данная парочка, для гаданий на кофейной гуще уже не осталось места. Показания исполнителя, скорее всего, не были доведены до сведения высокого руководства, которое могло решить так, а могло и этак. Гостя, который незваным пожаловал к генерал-полковнику, «этак», видимо, не устраивало, и он решил действовать по своему разумению, на свой страх и риск.
И, если его спутник действительно был тем, кем казался, о дальнейшем беспокоиться не приходилось.
Генерал-полковник еще колебался, не зная, какое из двух решений ему выбрать, и тут глаза его через стекло встретились с глазами стоявшего у калитки пожилого человека. Рука, будто сама собой, протянулась к подоконнику и взяла с него то, что лежало там просто так, на всякий пожарный случай.
Потому что пожарный случай, судя по всему, уже наступил.
* * *Дом стоял посреди спускавшейся к озеру березовой рощи. Он был трехэтажный, красного кирпича, крытый серой черепицей, и изобиловал какими-то застекленными от пола до потолка выступами, эркерами, пристройками, широкими балконами, верандами и прочими архитектурными излишествами, при виде которых Глебу Сиверову захотелось издать сакраментальный возглас: «Живут же люди!..»
Он, разумеется, промолчал, поскольку знал, какие комментарии последуют с заднего сиденья. Взятый накануне при его непосредственном участии человек заговорил практически сразу: он был профессионал, а каждый профессионал знает, что запираться бесполезно, особенно когда те, кто ведет допрос, тоже профессионалы. Мало кто способен промолчать, испытывая достаточно сильные и продолжительные болевые ощущения, а не открыть интервьюеру душу, получив внутривенно инъекцию грамотно подобранных наркотиков, сумел бы разве что Будда. Единственный по-настоящему действенный способ сохранить тайну – не знать ее вообще; ловкий тип, которого ценой немалых усилий удалось изловить агенту по кличке Слепой, кое-что знал. Он не испытывал ни малейших сомнений по поводу своей дальнейшей судьбы. Когда такие люди, как он, попадаются, их устраняют, независимо от того, сказали они что-нибудь на допросе или молчали, как партизан в гестапо. Молчать, выгораживая тех, кто уже приготовил для него петлю из простыни или заточку из столовой ложки, не имело ни малейшего смысла, и арестованный поспешил рассказать все, что знал, пока у него была такая возможность.
Генерал Потапчук присутствовал на допросе. Он уже тогда был мрачен, как грозовая туча, поскольку был неприятно удивлен, взглянув на задержанного и узнав, за кем, оказывается, они так долго и упорно охотились. А когда тот поделился имеющейся у него информацией, Федор Филиппович и вовсе начал напоминать Глебу восставшего из могилы мертвеца, который еще не решил, улечься ему обратно или, скажем, податься в вурдалаки.
У Глеба была слабенькая надежда, что за ночь генерал немного придет в себя. Он знал, что выдает желаемое за действительное, и не ошибся: события пошли не так, как хотелось Глебу Сиверову, а так, как они должны были пойти, поскольку ими руководили простые и ясные законы – в отличие от законов природы, временные, ибо история человечества имеет начало и конец, но на время своего действия столь же непреложные, как закон всемирного тяготения. Разговорчивый профессионал был приговорен с того момента, как его личность перестала быть тайной; это была такая же аксиома, как то, что подброшенный камень всегда падает вниз, а не вверх. И она получила блестящее (и совершенно излишнее) подтверждение, когда арестованного нашли поутру повешенным на собственных брюках в одиночной камере, расположенной в наиболее строго и тщательно охраняемом крыле следственного изолятора.
Это событие, разумеется, не прибавило Федору Филипповичу бодрости и оптимизма. И дело тут было не в повешенном на светлых, зеленоватого оттенка и нелепого покроя брюках профессионале – генерал наверняка считал, что туда ему и дорога, – а в тех, кто отдал приказ об его ликвидации. Почти всех их Федор Филиппович знал лично, и гибель арестованного служила косвенным доказательством правдивости его слов, в которой и без того никто не сомневался.
Поэтому сегодня с утра Глеб предпочитал первым с ним не заговаривать, а на редкие вопросы, поступавшие от его превосходительства, отвечал коротко, предельно четко и, по возможности, односложно – да или нет. От посторонних замечаний также следовало воздерживаться. Однако он не мог не отметить про себя, что дом, к которому они подъехали, стоит в отличном месте, грамотно посажен и недурно спроектирован – так, что даже Ирина, собаку съевшая на проектировании коттеджей для нуворишей всех мастей и рангов, ограничилась бы лишь парой-тройкой мелких, несущественных замечаний.