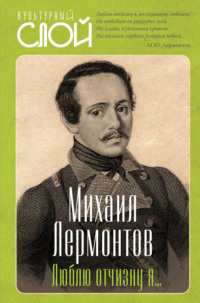Полная версия
Герой нашего времени. Поэмы. Стихотворения
Гореть, играть для тленья и могил…
Хоть все возьмет могильная доска,
Их пожалеет смерти злой рука;
Их луч с небес, и, как в родных краях,
Они блеснут звездами в небесах!
Кавказу
Кавказ! далекая страна!
Жилище вольности простой!
И ты несчастьями полна
И окровавлена войной!..
Ужель пещеры и скалы
Под дикой пеленою мглы
Услышат также крик страстей,
Звон славы, злата и цепей?..
Нет! прошлых лет не ожидай,
Черкес, в отечество свое:
Свободе прежде милый край
Приметно гибнет для нее.
Утро на Кавказе
Светает – вьется дикой пеленой
Вокруг лесистых гор туман ночной;
Еще у ног Кавказа тишина;
Молчит табун, река журчит одна.
Вот на скале новорожденный луч
Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,
И розовый по речке и шатрам
Разлился блеск, и светит там и там:
Так девушки, купаяся в тени,
Когда увидят юношу они,
Краснеют все, к земле склоняют взор:
Но как бежать, коль близок милый вор!..
«Прости, мой друг!.. как призрак я лечу…»
Прости, мой друг!.. как призрак я лечу
В далекий край: печали я ищу;
Хочу грустить, но лишь не пред тобой.
Ты можешь жить, не слыша голос мой;
Из всех блаженств, отнятых у меня,
Осталось мне одно: видать тебя,
Тот взор, что небо жалостью зажгло.
Всё кончено! – ни бледное чело,
Ни пасмурный и недовольный взгляд
Ничем, ничем не омрачат!..
Меня забыть прекрасной нет труда, —
И я тебя забуду навсегда;
Я мучусь, если мысль ко мне придет,
Что и тебя несчастие убьет,
Что некогда с ланит и с уст мечта
Как дым слетит, завянет красота,
Забьется сердце медленней, свинец
Тоски на нем – и что всему конец!..
Однако ж я желал бы увидать
Твой хладный труп, чтобы себе сказать:
«Чего еще! желанья отняты,
Бедняк – теперь совсем, совсем оставлен ты!»
Челнок
Воет ветр и свистит пред недальной грозой;
По морю, на темный восток,
Озаряемый молньей, кидаем волной,
Несется неверный челнок.
Два гребца в нем сидят с беспокойным челом,
И что-то у ног их под белым холстом.
И вихорь сильней по волнам пробежал,
И сорван летучий покров.
Под ним человек неподвижно лежал
И бледный, как жертва гробов;
Взор мрачен и дик, как сражения дым,
Как тучи на небе иль волны под ним.
В чалме он богатой, с обритой главой,
И цепь на руках и ногах,
И рана близ сердца, и ток кровяной
Не держит опасности страх;
Он смерть равнодушнее спутников ждет,
Хотя его прежде она уведет.
Так с смертию вечно: чем ближе она,
Тем менее жалко нам свет;
Две могилы не так нам страшны, как одна,
Потому что надежды здесь нет.
И если б не ждал я счастливого дня,
Давно не дышала бы грудь у меня!..
Отрывок
На жизнь надеяться страшась
Живу, как камень меж камней,
Излить страдания скупясь:
Пускай сгниют в груди моей.
Рассказ моих сердечных мук
Не возмутит ушей людских.
Ужель при сшибке камней звук
Проникнет в середину их?
Хранится пламень неземной
Со дней младенчества во мне.
Но велено ему судьбой,
Как жил, погибнуть в тишине.
Я твердо ждал его плодов,
С собой беседовать любя.
Утихнет звук сердечных слов:
Один, один останусь я.
Для тайных дум я пренебрег
И путь любви и славы путь,
Все, чем хоть мало в свете мог
Иль отличиться, иль блеснуть;
Беднейший средь существ земных,
Останусь я в кругу людей,
Навек лишась достоинств их
И добродетели своей!
Две жизни в нас до гроба есть.
Есть грозный дух: он чужд уму;
Любовь, надежда, скорбь и месть:
Все, все подвержено ему.
Он основал жилище там,
Где можем память сохранять,
И предвещает гибель нам,
Когда уж поздно избегать.
Терзать и мучить любит он;
В его речах нередко ложь;
Он точит жизнь, как скорпион.
Ему поверил я – и что ж!
Взгляните на мое чело,
Всмотритесь в очи, в бледный цвет;
Лицо мое вам не могло
Сказать, что мне пятнадцать лет.
И скоро старость приведет
Меня к могиле – я взгляну
На жизнь – на весь ничтожный плод —
И о прошедшем вспомяну:
Придет сей верный друг могил,
С своей холодной красотой:
Об чем страдал, что я любил,
Тогда лишь будет мне мечтой.
Ужель единый гроб для всех
Уничтожением грозит?
Как знать: тогда, быть может, смех
Полмертвого воспламенит!
Придет веселость, звук чужой
Поныне в словаре моем:
И я об юности златой
Не погорюю пред концом.
Теперь я вижу: пышный свет
Не для людей был сотворен.
Мы сгибнем, наш сотрется след,
Таков наш рок, таков закон;
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.