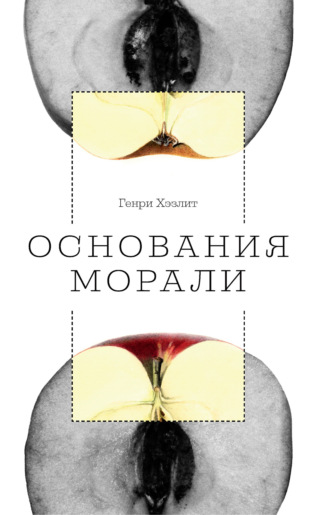
Полная версия
Основания морали
Таким образом, «система» этики будет сводом или совокупностью принципов, образующих единое, связное и завершенное целое. Но чтобы добиться этой внутренней цельности, нам нужно найти конечный критерий, с помощью которого оценивались или должны оцениваться поступки или правила действия. К этой цели мы неизбежно пойдем просто за счет того, что будем выявлять то, что ранее лишь подразумевалось, согласовывать прежде разрозненные правила, определять и уточнять расплывчатые и нечеткие правила и суждения, связывать разобщенное и дополнять неполное.
А когда и если мы обнаружим этот основополагающий моральный критерий, это мерило правого и неправого, мы, по всей видимости, действительно окажемся перед необходимостью пересмотреть по крайней мере некоторые наши моральные суждения и переоценить по крайней мере некоторые наши ценности.
Глава 2
Загадки нравственности
Все мы выросли в мире, где уже существуют моральные суждения. Эти суждения все люди ежедневно выносят по поводу поведения других людей. Мы не просто одобряем или не одобряем чужое поведение; мы одобряем или не одобряем конкретные поступки и даже определенные правила или принципы действия, причем совершенно независимо от того, какие чувства вызывают у нас люди, совершающие эти поступки или следующие этим правилам. Потребность выносить подобные оценки столь глубока, что почти каждый из нас применяет их к собственному поведению: мы одобряем или не одобряем свое поведение в той мере, в какой, по нашему суждению, оно соответствует принципам или стандартам, по которым мы оцениваем других. Если мы, по нашему собственному представлению, отступаем от морального кодекса, который привычно применяем к другим, мы чувствуем себя «виноватыми»; в нас говорит «совесть».
Наши личные моральные стандарты могут не быть точно такими же во всех отношениях, как у наших друзей, соседей или соотечественников, но они в любом случае очень похожи. Более значительные отличия выявляются, когда мы сравниваем наши «национальные» стандарты со стандартами других стран, а еще более заметную разницу мы находим, когда сравниваем их с моральными стандартами людей далекого прошлого. Но несмотря на эти довольно существенные различия, мы в большинстве случаев обнаруживаем устойчивую сердцевину сходства, обнаруживаем постоянство в осуждении таких качеств, как жестокость, трусость, вероломство, и таких поступков, как ложь, воровство и убийство.
Ни один человек не может точно вспомнить, когда впервые начал выносить суждения морального одобрения и неодобрения. С младенчества мы получаем такие оценки от родителей – «хороший» ребенок, «плохой» ребенок – и с самого раннего детства даем их без всякого разбора людям, животным и неодушевленным вещам: «хороший» товарищ или «плохой» товарищ, «хорошая» собака или «плохая» собака и даже «плохая» дверная ручка (если случалось стукнуться об нее головой). Лишь со временем мы начинаем отличать одобрение или неодобрение на собственно моральном основании от одобрения или неодобрения на других основаниях.
Неформальные своды моральных правил существовали, вероятно, за много веков до появления их кодифицированных версий – десяти заповедей, законов Ману или кодекса Хаммурапи. И лишь через долгое время после того, как они впервые были четко сформулированы (устно или письменно), люди начали размышлять о них, начали целенаправленно искать общее объяснение или разумное обоснование.
И тогда они столкнулись с величайшей загадкой. Как возник такой свод нравственных правил? Почему он содержит именно такие предписания, а не другие? Почему он запрещает именно такие действия? И почему только эти действия? Почему он предписывает или повелевает другие? И откуда люди знают, какие действия «правильные», а какие «неправильные»?
Первая гипотеза была такой: «правильными» или «неправильными» действия считаются потому, что так решили Бог или боги. Одни действия угодны Богу (или богам), а другие неугодны. Одни действия будут вознаграждены Богом в этой жизни или после нее, а другие подобным же образом будут наказаны.
Эта теория или вера господствовала многие столетия и, вероятно, до сих пор преобладает в простонародном религиозном сознании. Но у философов и даже у раннехристианских мыслителей она вызвала два больших вопроса. Первый сводился к следующему. Не был ли этот моральный кодекс совершенно произвольным? Считались ли одни действия правильными, а другие неправильными только потому, что так пожелал Бог? Или, напротив, тут в чистом виде жесткая причинная связь: божественная природа может желать только хорошего, но ничего плохого? Тогда Бог мог повелеть только то, что правильно, но ничего неправильного. Но в таком случае добро и зло, правое и неправое существуют независимо от божественной воли и предшествуют ей.
Вставал и другой вопрос. Даже если добро и зло, правое и неправое определены божественной волей, то как нам, смертным, узнать эту волю? Достаточно простой ответ предложили древние евреи: Бог самолично продиктовал Десять заповедей (а также сотни других законов и повелений) Моисею на горе Синай. Более того, Он собственным перстом начертал Десять заповедей на каменных скрижалях.
Однако сколь бы многочисленны ни были заповеди и предписания, они не объясняли четко, насколько убийство по степени греховности отличается от работы в субботний день. Они не были и не могли быть в полном объеме приемлемы для христиан. Христиане не признавали правил питания, установленных Богом Моисея. Бог Моисея требовал «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб» (Исх 21, 24–25). Иисус же требовал: «Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф 5, 39); «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас» (Мф 5, 44); «заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ин 13, 34).
Таким образом, проблема остается: как мы можем отличить и как на деле отличаем правое от неправого? Другой ответ, к которому до сих пор склоняются многие теоретики этики, таков: нам помогает особое «нравственное чувство», или непосредственная «интуиция». Трудность здесь не только в том, что нравственное чувство, или интуиция, одного человека предлагает иные решения, чем нравственное чувство другого, но и в том, что нравственное чувство или интуиция часто не дают четкого ответа, когда к ним обращаются.
Третий ответ гласит, что наш моральный кодекс – это такой же продукт общественной эволюции, как язык, нормы поведения или общее право и, подобно им, возник и развивался ради удовлетворения потребности в мире, порядке и общественном сотрудничестве.
Четвертый ответ сводится к простому этическому скептицизму или нигилизму, который склонен третировать все моральные правила или суждения как продукт беспочвенного суеверия. Но этот нигилизм никогда не бывает вполне последовательным и редко бывает искренним. Если человека, который его проповедует, свалят с ног, изобьют и ограбят, он будет ощущать нечто предельно близкое к нравственному негодованию и выразит свои чувства в форме, вряд ли отличимой от морального осуждения.
Впрочем, есть менее болезненный способ переубедить морального нигилиста. Достаточно попросить его представить общество, в котором нет никаких нравственных норм или же они прямо противоположны тем, с которыми мы привыкли иметь дело. Пусть он подумает, долго ли сможет преуспевать или даже просто существовать общество (или составляющие его индивидуумы), где нормами являются дурные манеры, вероломство, ложь, мошенничество, воровство, грабеж, физическая расправа, применение оружия, неблагодарность, неверность, предательство, насилие и в конечном счете хаос, – причем эти нормы почитаются столь же или даже более высоко, чем их противоположности: добрые нравы, верность слову, правдивость, честность, справедливость, верность, забота о других, мир, порядок и общественное сотрудничество.
Ниже мы рассмотрим каждый из этих четырех ответов более подробно.
Но вообще число ошибочных этических теорий и число возможных ошибок в этике почти безгранично. Мы можем рассмотреть лишь несколько самых крупных заблуждений, которые оказались исторически устойчивыми или до сих пор разделяются многими. Будет невыгодно и непродуктивно разбирать в деталях ошибочность или неадекватность каждой ложной теории, если мы не постараемся сначала выявить истинные основания нравственности и создать достаточно удовлетворительный общий план этической системы. Если мы найдем правильный ответ, нам будет гораздо легче понять и объяснить, почему другие ответы неправильны или, как минимум, не вполне правильны. Тогда мы сможем анализировать ошибки с большей ясностью и меньшими затратами времени, а результаты анализа использовать для углубления и уточнения нашей положительной теории.
Для формулирования теории этики в нашем распоряжении есть два основных метода. Первый можно было бы назвать (не столько из соображений терминологической точности, сколько из потребности как-то его обозначить) индуктивным, или апостериорным. Он состоит в следующем: мы выясняем, что в действительности представляют собой наши моральные оценки различных поступков или качеств, а затем пытаемся выяснить, образуют ли эти оценки единое целое и на каком общем принципе или критерии (если он вообще есть) они строятся. Второй метод – априорный, или дедуктивный. Мы не принимаем во внимание наличные моральные суждения, а спрашиваем себя, служит ли моральный кодекс какой-либо цели и если да, то какой именно цели; затем, когда мы определим эту цель, мы спрашиваем себя, какой принцип, критерий или свод норм будет способствовать достижению этой цели. Иными словами, мы пытаемся сначала создать систему морали, а потом тестируем имеющиеся моральные суждения с помощью критерия, который получили дедуктивным путем.
Второй метод – излюбленный метод Иеремии Бентама; первым пользовались более осмотрительные авторы. Второй по самому своему характеру чреват поспешностью и самонадеянностью, а первый, тоже в силу своей природы, может оказаться чересчур осторожным. Но поскольку практически всё плодотворное мышление представляет собой разумную комбинацию, т. е. «индуктивно-дедуктивный» метод, мы тоже будем использовать то один метод, то другой.
Начнем с поисков Конечного Морального Критерия.
Глава 3
Моральный критерий
Спекулятивное мышление – довольно позднее явление в истории человечества. Люди совершали действия задолго до того, как начали философствовать по поводу этих действий. Они начали говорить и выработали язык за много столетий до того, как проявили интерес к грамматике и лингвистике. Они трудились и запасали, собирали урожай, изготавливали орудия труда, строили жилища, приобретали, обменивали, покупали и продавали, породили деньги задолго до того, как появились первые четкие экономические теории. Они выработали формы правления и законы, имели судей и суды уже тогда, когда еще не было никаких теорий политики и права. Они также действовали в молчаливом соответствии с моральным кодексом, награждали или наказывали, одобряли или порицали поступки других людей в зависимости от того, соответствуют ли эти поступки моральному кодексу или противоречат ему, задолго до того, как задумались о рациональном обосновании своих действий.
Поэтому на первый взгляд может показаться, что естественнее и логичнее начинать этическое исследование с рассмотрения истории или эволюции этической практики и этических суждений. Разумеется, на определенном этапе нашего исследования мы прибегнем к такому рассмотрению. Однако этика, вероятно, единственная дисциплина, где представляется более продуктивным начинать с другого конца. Ведь этика – «нормативная» наука. Это наука не описывающая, а предписывающая. Это наука не о том, что есть или было, а о том, что должно быть.
Конечно, она может притязать на научный статус и даже просто на практическую полезность лишь при условии, что имеет некоторое убедительное основание в том, что было или есть. Здесь, однако, мы вступаем в самую сердцевину старого спора. В последние два столетия многие исследователи этики настаивали на том, что «никакое накопление наблюдаемых данных, никакой опыт относительно того, что есть, никакие предсказания того, что будет, не могут служить обоснованием того, что должно быть»1. Другие пошли еще дальше и заявили, что переход от есть к должно быть принципиально невозможен.
Если бы последнее утверждение было верным, исчезла бы всякая возможность выстроить рациональную теорию этики. Если только наше «должное» не является чем-то совершенно произвольным, совершенно догматическим, оно непременно каким-то образом вырастает из того, что есть.
Нужно отметить, что связь между сущим и должным всегда выступает в виде того или иного желания. Мы видим это по нашим повседневным решениям. Когда мы пытаемся наметить план действий и просим совета, нам, например, говорят: «Если ты хочешь стать врачом, тебе следует пойти на медицинский факультет. Если хочешь преуспеть, тебе нужно прилежно заниматься своим делом. Если не хочешь потолстеть, соблюдай диету. Если не хочешь заболеть раком легких, прекрати курить», и т. д. Все подобные советы можно свести к единой общей формулировке: если вы хотите добиться определенной цели, вы должны использовать определенное средство, поскольку оно с наибольшей вероятностью ведет к достижению цели. Желание – это то, что естъ, средство его удовлетворения – то, что должно быть.
Пока все как будто складно. Но насколько это приближает нас к теории этики? Ведь если человек не стремится ни к чему, его невозможно убедить использовать средство, необходимое для достижения какой-либо цели. Если он согласен лучше растолстеть или пойти на риск сердечного приступа, чем умерить свой аппетит или отказаться от любимых деликатесов, если перспектива заболеть раком легких для него не так неприятна, как отказ от курения, то любое долженствование, основанное на обратном предпочтении, не возымеет на него ни малейшего воздействия.
Вот история об окулисте и пьянице, столь древняя, что даже Бентам2 передавал ее как старинную. Один поселянин, повредив свое зрение пьянством, пришел за советом к знаменитому окулисту. Врач сидел за стаканом вина. «Вам надо бросить пить», – сказал врач. «Как так! – удивился поселянин. – Вы же не бросаете, а ваши глаза, сдается мне, тоже не в лучшем состоянии». «Это совершенно справедливо, приятель, – ответил окулист. – Да только, знаешь ли, бутылка мне милее глаз».
Как же нам в таком случае перейти из формата желания на уровень этической теории?
Мы найдем решение, если представим все в более длительной и широкой перспективе. Все наши желания можно в общем виде описать как желания заменить менее удовлетворительное положение более удовлетворительным. Несомненно, что под влиянием влечения или страсти, приступа гнева или ярости, злобы, жажды мести, тяги к обжорству или непреодолимого желания получить сексуальное удовлетворение, закурить, выпить или принять наркотик человек в долгосрочной перспективе может лишь привести более удовлетворительное состояние к менее удовлетворительному, может сделать себя менее счастливым. Но переход в это менее удовлетворительное состояние не будет его сознательным намерением даже в момент совершения действия. Задним числом он понимает, что поступил неправильно, не улучшил свое состояние, а ухудшил его, что действовал не в своих долгосрочных интересах, а вопреки им. В спокойные моменты он всегда готов признать, что должен выбирать такие действия, которые максимально способствуют его интересам, максимизируют его счастье (или минимизируют несчастье) в долгосрочной перспективе. Люди рассудительные и дисциплинированные не позволяют себе сиюминутных удовольствий, если видят, что потворство желаниям в долгосрочной перспективе приведет лишь к перевесу невзгод и страдания.
Подведем итог: неверно, что «никакая совокупность сущегопе порождает должного». На самом деле должное основывается и должно основываться либо на том, что есть, либо на том, что будет. Логика здесь простая: любой человек в здравом состоянии ума стремится к своему счастью в долгосрочной перспективе. Это – факт; это сущее. За многие столетия человечество выяснило: определенные правила поведения лучше других способствуют в долгосрочной перспективе счастью как отдельно взятого человека, так и общества. Эти правила действия получили названия нравственных правил. Поэтому – если принять в качестве посылки, что каждый стремится к своему долгосрочному счастью, – это такие правила, которым должно следовать.
Собственно, это и есть основа так называемой пруденциальной этики, или этики благоразумного расчета. Пожалуй, единственным альтернативным определением пруденциальной этики может быть такое: это мудрость или искусство жить мудро.
Пруденциальная этика составляет весьма значительную часть всей этики. Но и этика в целом покоится на том же самом основании. Ибо люди обнаруживают, что в долгосрочной перспективе они наилучшим образом действуют в собственных интересах тогда, когда не просто воздерживаются от причинения вреда другим, а сотрудничают с ними. Общественное сотрудничество – главное средство, с помощью которого большинство из нас достигает большинства своих целей. И если не на открытом, то, во всяком случае, на молчаливом признании этого обстоятельства в конечном счете и основаны наши моральные кодексы и наши правила поведения. Да и сама «справедливость» (в чем мы с большей несомненностью убедимся ниже) состоит в соблюдении правил или принципов, которые в долгосрочной перспективе более всего способствуют сохранению и развитию общественного сотрудничества.
В ходе дальнейшего исследования нашего предмета мы увидим также, что не существует непримиримых противоречий между эгоизмом и альтруизмом, между себялюбием и благожелательностью, между долгосрочными интересами отдельного человека и интересами общества. В большинстве случаев, когда такие противоречия все же представляются существующими, это представление возникает потому, что во внимание принимаются не долгосрочные последствия, а только краткосрочные.
Общественное сотрудничество, естественно, само является средством. Это средство, помогающее движению к никогда полностью не достижимой цели – максимизации счастья и благополучия человечества. Но большим препятствием тому, чтобы это счастье стало нашей общей непосредственной целью, служит отсутствие единства во вкусах, личных устремлениях и ценностных суждениях индивидуумов. Действие, доставляющее удовольствие одному человеку, может быть крайне неприятно другому. «Что полезно одному, то вредно для другого». Тем не менее общественное сотрудничество – великое средство; благодаря ему мы все помогаем друг другу в достижении в достижении наших личных целей и тем самым способствуем достижению целей «общества». Кроме того, у нас на самом деле много общих базовых целей, а социальное сотрудничество – главное средство достижения также и этих целей.
Иными словами, цель каждого из нас – удовлетворить собственные желания, обрести как можно более полное личное счастье и благополучие – лучше всего достигается с помощью общего средства, Общественного Сотрудничества, и без него достигнута быть не может.
Вот это и есть основание, на котором мы можем выстраивать рациональную систему этики.
Глава 4
Удовольствие как цель
1. Иеремия Бентам
Учение, согласно которому удовольствие, или наслаждение, – это единственное конечное благо, а страдание – единственное зло, во всяком случае, не моложе времен Эпикура (341–270 гг. до н. э.). Однако с самого начала это учение было осуждено как еретическое всеми ортодоксальными или аскетическими моралистами и впоследствии пережило почти полное забвение, пока не возродилось в XVII–XVIII вв. Мыслителем, который изложил его в наиболее бескомпромиссном, детальном и систематическом виде, был Иеремия Бентам1.
Если судить по количеству упоминаний о Бентаме и его учении в специальной литературе – пусть даже в большинстве своем критических, неодобрительных или насмешливых, – то он остается самым обсуждаемым и влиятельным моралистом Нового времени. Поэтому целесообразно будет начать с анализа гедонистической доктрины в том ее виде, как она изложена Бентамом.
Наиболее известная (и наиболее аутентичная)2 формулировка содержится во «Введении в основания нравственности и законодательства». Вступительные строки книги смелы и решительны: «Природа поставила человечество под управление двух верховных властителей, страдания и удовольствия. Им одним предоставлено определять, что мы можем делать, и указывать, что мы должны делать. К их престолу привязаны, с одной стороны, образчик хорошего и дурного и, с другой, цель причин и действий. Они управляют нами во всем, что мы делаем: всякое усилие, которое мы можем сделать, чтобы отвергнуть это подданство, послужит только к тому, чтобы доказать и подтвердить его. На словах человек может претендовать на отрицание их могущества, но в действительности он всегда останется подчинен им. Принцип полезности признает это подчинение и берет его в основание той системы, цель которой возвести здание счастья руками разума и закона. Системы, которые подвергают его сомнению, занимаются звуками вместо смысла, капризом вместо разума, мраком вместо света».
Как свидетельствует второе предложение приведенной выше цитаты, Бентам намечает различие между тем, что потом стало называться теорией психологического гедонизма (утверждающей, что мы все-таки всегда предпринимаем действия, которые, по нашему мнению, принесут нам наибольшее удовольствие), и тем, что получило название этического гедонизма (эта теория утверждает, что нам надлежит предпринимать действия, приносящие наивысшее удовольствие или счастье). Впрочем, анализ этой запутанной проблемы можно отложить до следующей главы.
Далее Бентам разъясняет:
«Принцип полезности есть основание настоящего труда, поэтому будет не лишним в самом начале дать точный и определенный отчет о том, что понимается здесь под этим принципом. Под принципом полезности понимается тот принцип, который одобряет или не одобряет какое бы то ни было действие, смотря по тому, имеет ли оно (как нам кажется) стремление увеличить или уменьшить счастье той стороны, об интересе которой идет дело… Я говорю: какое бы то ни было действие, и потому говорю не только о всяком действии частного лица, но и о всякой мере правительства.
Под полезностью понимается то свойство предмета, по которому он имеет стремление приносить благодеяние, выгоду, удовольствие, добро или счастье (все это в настоящем случае сводится к одному), предупреждать вред, страдание, зло или несчастье той стороны, об интересе которой идет речь: если эта сторона есть целое общество, то счастье общества; если это отдельное лицо, то счастье этого отдельного лица»3.
Впоследствии Бентам несколько пересмотрел свои идеи или, во всяком случае, их формулировки. Он признал, что своим «принципом полезности» обязан Юму, но пришел к выводу, что принцип этот слишком широк. Полезность для чего? Из работы Пристли «О государственной власти» (1768) он заимствовал формулировку «наибольшее счастье наибольшего числа людей», но потом заменил ее и «полезность» Принципом величайшего счастья. Еще позже, как явствует из «Деонтологии», он заменил «удовольствие» на «счастье» и «наибольшее счастье» и в той же «Деонтологии» сформулировал следующее определение: «Нравственность есть искусство как можно больше увеличивать счастье; она предоставляет свод правил, предписывающих такое поведение, результат которого, если иметь в виду всю совокупность человеческого существования, доставляет наибольшее количество счастья»4.
2. Обвинение в чувственности
Однако самая мощная волна критики обрушилась на формулировку, приведенную в «Основах нравственности и законодательства» (и на распространенные ложные интерпретации теории Бентама, преподносившие его идеи в искаженном виде).
Поскольку главная задача вводных глав моей книги состоит в том, чтобы заложить основы положительной теории нравственности, я остановлюсь лишь на некоторых аспектах справедливости или несправедливости этой критики и рассмотрю их применительно не столько к теории Бентама как таковой, сколько к гедонистическим или эвдемонистическим учениям вообще.
Самый распространенный упрек гедонизму или утилитаризму со стороны антигедонистов и антиутилитаристов гласит: «удовольствие», объявленное целью всякого действия, имеет чисто физический, чу ветвенный характер. В частности, Шумпетер называет гедонизм «самой плоской из всех мыслимых философий жизни» и утверждает, что образцом «удовольствия», о котором здесь идет речь, является удовольствие от поедания бифштексов5. Такие моралисты, как Карлейль, без колебаний именовали гедонизм «свинской философией». Этот упрек приводится с незапамятных времен. Слово «эпикуреец» стало синонимом слова «сластолюбец», а последователей Эпикура обзывали «свиньями» Эпикура.

