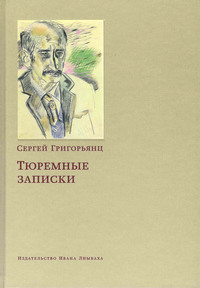Полная версия
Тюремные записки
К формуле «в жизни есть вещи важнее, чем коллекции» я пришел примерно после недели готовности уморить себя голодовкой – понимал, что в конце концов это возможно. И тогда не будет никакого суда, никакого приговора, а значит, и решения о конфискации, и моя жена с двумя маленькими детьми (впрочем, Аней она еще только была беременна) не останется одинокой, абсолютно нищей, а сможет что-то понемногу продавать и так поддерживать себя и детей. Но через неделю я решил, что надо попробовать бороться. Не сдаться, не «найти общий язык» с теми, кого я не считал людьми, а как-то, пока не ясно для меня как, побороться.
Я твердо понимал, что попал в руки уголовников, врагов, что найти с этими нелюдями общий язык – значит стать лакеем, есть с их руки. Это меня, меня они хотят сделать лакеем! Я всегда знал, что они могут убить, но в камере голодающих прибавилось внутреннее знание, что моя жизнь в моих руках, что я сам могу ею распоряжаться. И это был самый важный для меня опыт.
Что же касается борьбы, то я ни минуты не предполагал, что результатом может стать освобождение. Я не ждал его и не думал о нем. «Мой дом – тюрьма», – услышал я от кого-то тогда же и не забывал этого. Но еще ближе была мне классическая советская поговорка «был бы человек, а статья найдется». Человек – я – у них уже был, какую (или какие) они найдут статьи, я не знал, но понимал, что даже по диким советским законам организовать против меня дело было не так легко. При этом я внутренне совершенно не считал себя хорошим человеком – сознавал, что создал массу проблем, если не принес несчастья, и жене, и матери, и друзьям. Часами лежа на кафельном полу, подсчитывал грехи, совершенные в жизни, иногда даже примерял их к Уголовному кодексу и думал, сколько лет по справедливому суду я должен был бы получить. Как странно: эти подсчеты позднее, в другой камере, наложились на прочитанный рассказ Мельникова-Печерского о старообрядце, просидевшем на каторге по ложному обвинению 25 лет и отвечающем: «Без вины никто не страдает».
Но меня собирались судить за то, в чем я не считал себя виновным, и я не только не собирался (да и не смог бы) становиться лакеем, но и решил бороться – то есть создать им максимум проблем.
Для начала, кажется еще в камере голодающих, я узнал, что можно написать жалобу генеральному прокурору и что от голодающего она будет рассмотрена.
Я написал, что вопреки моим протестам следователь Леканов допрашивал во время обыска в Киеве мою больную мать, от которой только что ушел врач, предписав отсутствие любых нарушений постельного режима и волнений. После этого, увидев, как моих голодающих соседей вызывают на допросы, возят в суды, и понимая, что так называемое искусственное питание (смесь, вливаемая через трубки в желудок) не равноценно нормальной, хоть и тюремной, еде, и желая сэкономить силы для предстоящей борьбы, я прекратил свою первую и такую важную для меня голодовку. Все мои размышления в эти недели не стоили бы ничего – мало ли что человек придумает, оказавшись внезапно (а это всегда внезапно) в тюрьме, – если бы именно они не определили всю мою последующую жизнь до сегодняшнего дня.
«И ответил он с тоской: – Я теперь всегда такой», – как писала в детском стишке Агния Барто.
Окончание первой голодовки
Когда я объявил об окончании первой голодовки, меня перевели в ту же камеру Матросской Тишины, куда привезли из КПЗ. На этот раз никто не пытался заставить меня тащить свой тюфяк, и больше никому в тюрьмах (кроме соседей) я не позволял говорить мне «ты». В камере все было по-прежнему, даже человек с килограммом сахара никуда не делся, но толку от него для тюремной администрации было немного. Это был рядовой малограмотный стукач из тех, кого после суда оставляют досиживать срок в следственном изоляторе, одних – «баландерами», других – «наседками».
Тут мне хотелось бы привести одно соображение. Когда человек оказывается в камере впервые, то спустя некоторое время следователи о нем как бы забывают (на самом деле группируют материалы). И одно это может его запугать и полностью дестабилизировать: «Про меня забыли… Что же со мной будет? Что дальше?» Но я человек спокойный, да еще и очень помогла голодовка – мне уже было ясно, как я отношусь к тюрьме, к следствию, к своему будущему, – и на меня этот прием совершенно не действовал. Я употребил это бесполезное время на то, чтобы написать десяток жалоб в прокуратуру, но лишь одна – первая, из камеры для голодающих, многое определила. Больше для развлечения я писал раз за разом, что был незаконно арестован.
Получил первую продуктовую передачу от жены. В ней (в апреле) были самые первые, конечно, в это время очень дорогие тепличные помидоры. Мне эти внимание, забота были очень важны – я ведь понимал, что оставил беременную жену с годовалым сыном совершенно без денег, кажется, с тридцатью рублями.
Через какое-то время меня начали вызывать к следователю. И во время первого же допроса следователь Леканов, очень довольный, показал мне заявление матери о том, что она не согласна с моим заявлением о незаконном допросе, что следователь был вполне вежлив, корректен и разговаривал с ней с ее полного согласия и никаких претензий у нее к нему нет. Уже после суда нам дали первое свидание, и я спросил: «Мама, кому ты помогаешь и зачем ты писала заявление?» Она мне ответила: «Ну, ты, вероятно, хотел, чтобы у тебя дочь родилась живой? Так вот, это была единственная возможность прекратить допросы твоей жены». Потом все выяснилось…
Я очень люблю свою жену, считаю себя во многом виноватым, мы женаты уже полвека, но сказать, что я был образцовым мужем, никак нельзя. И поскольку они за мной следили, то и на эту тему у них была разнообразная информация. Жена была на пятом месяце беременности. Следователь, пытаясь настроить ее, как и других моих родственников, против меня, получить нужные ему обвинения, начал открывать ей глаза на мое поведение. Тома потеряла сознание и упала на пол. После чего Леканов предложил матери: вы напишете это заявление, а он прекратит допросы Тамары. И у матери не было выбора: писать заявление или нет. Но тогда я ничего этого не знал, прочитав заявление, пожал плечами.
В камере самой страшной бедой были клопы. И мы, как могли, старались от них избавиться, в том числе выжигая их. Вскоре главным виновником столь вопиющего нарушения порядка объявили меня, и я был отправлен в карцер, как потом понял – по заказу следователя.
Я еще был настолько наивен, что, обнаружив на бетонном полу карцера толстый слой воды, вызвал дежурного и попросил у него половую тряпку, думая, что кто-то забыл вытереть пол. Дежурный лишь усмехнулся моей тупости, тряпки, конечно, не дал, и только потом я узнал, что воду наливали на бетонный пол, чтобы спровоцировать туберкулез. Но мне повезло: у меня лишь потекло из ушей. Я с прежней наивностью записался к врачу и попросил борную кислоту, чтобы закапать в уши. Но этот гнусный парень ответил, что ничего мне не даст, а если начнется заражение, «он отпишется».
В карцер я попал по заказу следователя, и это уже был отчаянный с его стороны шаг. Никаких полезных показаний ему получить от меня не удавалось, обвинить меня сколько-то доказательно было не в чем, а главное – я совершенно не был запуган и не искал с ними «общий язык». После пары допросов, когда Леканов по следовательскому обыкновению переиначил, записывая, мои ответы так, чтобы из них хоть что-то извлечь, я сказал ему:
– Так продолжать допросы не имеет смысла. Я не буду вовсе подписывать ваши протоколы, или мои исправления будут занимать больше места, чем сами допросы. Не спрашивайте устно, а пишите мне вопросы, а я так же письменно – собственноручно – буду на них отвечать.
Возразить на это Леканову с формальной точки зрения было нечего. И тогда он (видимо, я был им нужен), конечно с санкции оперативников из КГБ, пошел на то, что строго запрещалось всеми инструкциями. Я имею в виду не водворение в карцер с высоким слоем воды на полу, а проведение со мной, измученным, в мокрой одежде и текущим из уха гноем, очной ставки с Юрием Милко – штатным сотрудником и осведомителем КГБ, до этого приставленным к Параджанову, а спустя годы обнаруженным мной в качестве сотрудника Госдепартамента США. Я о нем подробно рассказываю в записках о Параджанове5. Расшифровывать сотрудников КГБ во всех случаях запрещалось, но мне устроили с ним очную ставку. Конечно, нарядный и спортивный Юра внятно не говорил о своей работе, но подробно рассказал, как продал мне однажды десять серебряных стаканов XVIII века и оклад иконы Святого Георгия. Это было правдой, но никакого значения не имело. Все стаканы были у меня в коллекции и ничего обвинению не давали. Но совершенно неожиданно очная ставка сработала.
В карцере я, как и раньше, много думал о неприятностях, доставленных родным. А тут еще Милко привезли из Киева, и я с омерзением подумал, что теперь будут теребить моих старых знакомых, да еще в разных городах. И чтобы избежать этого, я сознательно дал Леканову зацепку, чтобы они могли в чем-то меня наконец обвинить, а не дергать в Москве, Киеве, Ленинграде беспомощных стариков. Я уже не помню точно, какой была эта зацепка. Кажется, она была связана с книгами. Через много лет, знакомясь с моим делом, адвокат Татьяна Георгиевна Кузнецова нашла это место и спросила меня, почему я хоть немного, но помог себя обвинить. Я ответил для краткости: шантаж. Но на самом деле была жалость к друзьям и уверенность в том, что добиться справедливости невозможно, из тюрьмы они меня уже не выпустят, и лучше сразу дать им возможность сфабриковать дело, состоящее в чтении книг и знании русской литературы, которую они считают антисоветской.
Новая камера, новые уговоры и попытка вербовки
Из карцера, где я провел дней десять, я попал в новую камеру – теперь уже тщательно подобранную. Там были люди, шедшие по более серьезным, чем золочение куполов и кража шапки, делам. Самым достойным был Юра Анохин, автор стихотворения в поддержку восставшего народа в Венгрии, прочитанного на собрании в Московском университете. За это он уже получал срок. После отставки Хрущева его не только освободили, но и реабилитировали, так что теперь он сидел с нами как бы по первой «ходке».
Был еще какой-то инженер (нефтяник, по-моему), который из ревности убил свою жену, нанеся ей множество ножевых ударов; мы с ним были сперва в хороших отношениях – интеллигентный мужик такой, московский.
Был один опытный уголовник, который умел договориться с охраной, с МВД. Он рассказал мне, как можно, опустив смятую монету в автоматическую камеру хранения и сделав ее неработающей, узнать, какой номер на действующей камере наберет человек, оставляя свой багаж. Мне было очень интересно – я надеялся, что когда-нибудь начну писать детективы. Был один высокий парень, который служил в армии чуть ли не на Северной Земле и которому пришили зверское убийство, совершенное в его части. Потом выяснилось, что в части царил поголовный разврат, так что на него просто повесили это преступление.
Еще был тоже недавний солдат, который служил в Москве в каком-то строительном спецбатальоне. И вся его воинская часть, расположенная где-то на Преображенке, кажется человек шестьсот, – поголовно и с ведома начальства – по ночам занималась кражами и грабежами. Каждый солдат, возвращаясь после «охоты», должен был дать дежурному офицеру бутылку коньяка. Тот, видимо, передавал ее сослуживцам и начальству. Причем у каждой группы были свои интересы. Мой сокамерник рассказывал о группе, которая регулярно обчищала склад какой-то московской гардинной фабрики. Грабили они его раз десять, начальство не заявляло о грабежах, да и когда солдаты были пойманы, никакой недостачи там не обнаружилось. А попались они на том, что однажды так набили рулонами ткани багажник такси, что багажник сам открылся и кто-то из водителей, ехавших позади, это заметил и сообщил куда следует. Но мой сосед входил в группу, которая грабила по ночам продуктовые магазины. Его специализация была стоять «на стреме», то есть чуть вдалеке от магазина, и жалобы, которые я по его просьбе писал, начинались с того, что он, увидев, что готовится преступление, не захотел принимать в нем участие и даже довольно далеко ушел, но не знал, куда идти, и только поэтому был арестован. Я знаю подробности, потому что нередко помогал писать жалобы.
Единственным недостатком этих жалоб было то, что ограбленных магазинов было несколько, а каждый эпизод приходилось начинать с того, как он решил уйти от преступников. Результаты их грабежей оказались совсем не такими, как на гардинной фабрике. Директора магазинов охотно указывали, какое чудовищное количество продуктов было украдено. Сотни бутылок коньяка и дорогих вин, сотни же килограммов ветчины, буженины и других самых дорогих продуктов. Причем ко времени инвентаризации после грабежа их действительно не оказывалось в наличии в магазинах. Но судил солдат Московский военный суд, который в те времена был приличнее остальных. Ссылаясь не столько на показания солдат, которые говорили, что почти ничего не брали, сколько на практический подсчет того, что могло поместиться в их рюкзаки, да и вообще, сколько килограммов и бутылок могли унести четверо молодых людей, суд раза в четыре сократил объемы похищенного. Как потом выкручивались директора магазинов – не знаю. Вообще из тюрьмы советская жизнь выглядела совсем иначе, чем из официальных источников.
Я много читал. В тюрьме и писатели и книги воспринимаются совсем иначе, чем на воле. Скажем, талантливые ранние рассказы Алексея Толстого оскорбительно поражают поверхностностью и легкомыслием, которые прежде не были так заметны. Зато отчетливо всплывшее в памяти «Приглашение на казнь» Набокова – писателя мной не любимого, казавшегося холодным, рассудочным и вообще не русским, внезапно начинает поражать своей догадкой (откуда она у него?) о стремлении «сотрудничества» палача с жертвой, попыткой установить близкие дружеские отношения. Я о Набокове вспомнил, пробыв около полугода в тюрьме, увидев нескольких следователей, охранников и «наседок» и почти от каждого, как и в последующие долгие годы, я слышал одно и то же: «Почему вы нас за людей не считаете?» – все они хотели быть со мной если не в дружеских, то в «хороших» отношениях.
Такое же удивление на всю жизнь (откуда он мог это знать?) вызвал какой-то случайный детективный роман Пристли, где сыщик-любитель, когда преступник оказался в тюрьме, спрашивает знакомого полицейского: «Ну, теперь вы все подробности будете знать, в тюрьме он все расскажет», а полицейский отвечает: «Никогда нельзя заранее знать, как поведет себя человек в тюрьме». Я, всегда считавший себя слабым («молодец среди овец», единственный мужчина в женском семействе), и не предполагал, что не буду бояться следователей, уголовников – соседей, провокаторов и, как потом выяснилось, – смерти. И вдруг именно так все и оказалось – и к моему удивлению и к удивлению тех, кто меня арестовывал. И потом всю свою жизнь я убеждался, что и сам человек, и хорошо знающие его люди не могут заранее просчитать, каким он окажется в тюрьме.
Три книги для меня оказались внутренне очень важными. Одной была сказка «Аленький цветочек» в полной ее, взрослой, редакции, с жесткой, суровой фразой Аксакова: «Лишь того Бог человеку не пошлет, чего человек не вынесет». И уже упоминавшийся мной рассказ Мельникова-Печерского о старовере, проведшем по ложному доносу 25 лет на каторге с важной для моих собственных размышлений темой, в чем я действительно в своей жизни виновен, – все это никак не соприкасалось с моим внятным и жестким отношением к следователям: не им меня судить. Особенно любопытным оказался какой-то изданный в 1930-е годы краеведческий сборник о ярославской старине. Один из помещенных там очерков был о том, как в конце XIX века в Ярославле умер палач. Российское Уложение о наказаниях, хотя давно не включало в себя смертной казни, но предусматривало за несколько преступлений телесные наказания, для чего в Ярославской губернии и был старенький палач, которому два-три раза в год приходилось сечь плетьми осужденных. Когда он умер, оказалось, что, несмотря на полагавшиеся ему от казны домик и немалое жалованье, несмотря на объявления в губернских газетах, ни одного желающего на эту должность найти не удается. И тогда Министерство внутренних дел России пошло на беспрецедентную меру: по всей России в тюрьмах и на каторге заключенным предлагали освобождение, если они согласятся занять место в Ярославле. И в течение целого года ни один каторжник по всей России на это не согласился, а до 1905 года, когда телесные наказания были отменены, в Ярославль, если возникала нужда, приезжал по железной дороге палач из Москвы. Мой тюремный и лагерный опыт был, конечно, недостаточен, но я уже хорошо понимал, какая выстроилась бы очередь в Советском Союзе; да и позже, в Ярославской колонии, не раз слышал от соседей, что они, сообразив по советским газетам, что в Анголе и Мозамбике воюют советские войска, писали заявления с просьбой послать их туда: «Можно убивать и грабить, и ничего тебе не будет».
Главным моим сокамерником, ради которого я и был в нее помещен, оказался некто Лева Аваян. Сначала я думал, что Лева – это сокращенное армянское имя Левон, но потом выяснилось, что полное имя его Лаврентий. Говорящее, как оказалось. Он считался одним из обвиняемых, которых регулярно возили в городской суд по «делу прокуроров». Прокуроров этих, за крупные взятки закрывавших уголовные дела, было человек десять, связанных между собой круговой порукой. Наиболее важным был заместитель генерального прокурора РСФСР, которого, правда, не судили, а отправили на пенсию, но по делу этому проходило в качестве обвиняемых человек двадцать из разнообразных советских структур, откуда прокуроры и получали взятки. Аваян считался почему-то сотрудником московской филармонии и для затравки рассказал мне, как развлекаются известные советские актеры. Я эти рассказы слушал со скукой, поразил меня (и потом я его вспомнил на собственном опыте) совсем другой – о том, что родители сотни заключенных, погибших в Златоустовской тюрьме, едва не взяли ее штурмом.
В этой тюрьме начальником по режиму («кумом») был садист, развлекавшийся тем, что в старом здании с толстыми стенами, где в карцерах было по две решетки на окнах – внешняя и внутренняя, а между ними – почти метровое пространство стены, запирал зимой между этими двумя решетками (у внутренней был свой навесной замок) заключенных. И они замерзали, одетые в хлопчатобумажные брюки в сибирские пятидесятиградусные морозы. Так этот негодяй убил около ста человек, пока не оказалась под следствием покрывавшая его сеть прокуроров.
Но рассказы Аваяна были лишь дополнением к трогательной (якобы из национальной общности) обо мне заботе. Для начала он подыскал мне удобное место в камере, потом как-то сумел помочь получить от жены первую за несколько месяцев вещевую передачу – до этого мне приходилось постоянно перестирывать единственные, почти превратившиеся в лохмотья трусы. Как-то Лева тихонько отвел меня в сторону и сказал, что может передать записку от меня жене. Что их постоянно возят в суд на «воронке» с одним и тем же шофером, и Лева смог его уговорить передавать записки своей жене; теперь она сможет передать записку и моей. Что ж, замечательное предложение. Я взял тетрадный листик в клеточку и мелким почерком на каждой строчке подробно описал свою тюремную жизнь. Он как будто неохотно взял у меня эту записку, а вскоре сказал, что был какой-то неожиданный обыск и пришлось бросить ее в бак с бензином. Проходит дней десять, Аваян опять предлагает мне написать жене. Я опять беру листик бумаги в клеточку и мелким почерком на каждой строчке подробно описываю тюремную жизнь. Тут уже он заглядывает через плечо: «Да ты не это пиши. Ты пиши, с кем надо повидаться, кому что передать, кого предупредить…»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Коллекционеры Т. А. и И. Н. Поповы; см. о них: Григорьянц С. И. В преддверии судьбы: сопротивление интеллигенции. СПб., 2018. Здесь и далее примеч. ред.
2
Дружественная С. И. Григорьянцу семья: Игорь Александрович Сац (1903–1980) – литератор, критик, литературный секретарь наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского; в 1953–1964 гг. – заведующий отделом критики, в 1965–1970 гг. – член редколлегии журнала «Новый мир» и Раиса Исаевна Линцер (1905–1980) – переводчик.
3
Морозов Александр Анатольевич (1932–2008) – филолог, литературовед, исследователь творчества О. Э. Мандельштама.
4
Александр Акимович Санин (настоящая фамилия Шенберг; 1869–1956) – актер, режиссер МХТ, Александринского и других театров, ставил спектакли в Большом театре. С 1907 г. преимущественно оперный режиссер; мастер постановок массовых сцен. После 1922 г. работал за рубежом (в театрах Парижа, Мадрида, Рима и др.).
5
См.: Григорьянц С. И. В преддверии судьбы: сопротивление интеллигенции. СПб., 2018. С. 355–357, 374.