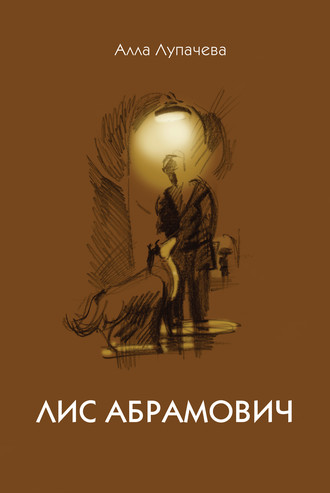
Полная версия
Лис Абрамович
Связь с Москвой была плохая, мобильники в стране еще не появились. Бесперебойно работала только радиотелефонная связь, у военных. Но для остальных, штатских – почти полная оторванность от мира. Когда однажды в квартире неожиданно раздался телефонный звонок, Юля как сумасшедшая схватила трубку и услышала: «Не волнуйся. У меня всего одна минута. Жив, здоров. Все в порядке». Порядок? Его трудно было представить даже при самом искреннем желании, хотя именно тогда, в режиме чрезвычайного положения, там наверняка был порядок. «Живу в гостинице. (Какая там «гостиница» в этом стертом с лица земли городе?) Питаюсь нормально. (Не ем, а питаюсь!) Больше говорить не могу. Целую».
Через два с половиной месяца тяжелой, напряженной работы гражданских экспертов стали отпускать по домам. В последнюю ночь перед самым отъездом Абрам еще раз прошелся по бывшему городу. Людей нигде не было. Город был мертв. Только выли голодные, теперь уже навсегда бездомные собаки.
Неожиданное возвращение мужа было похоже на репинскую картину «Не ждали». Когда поздно вечером раздался осторожный звонок в дверь, Юля, не дожидаясь ответа на вопрос «Кто там?», почему-то откинула цепочку и сразу повернула замок. На пороге стоял виновато улыбающийся, давно не бритый человек с покрасневшими от пыли и недосыпания глазами. За его плечами провис набитый грязным бельем рюкзак, в авоське тяжело покачивалась огромная, килограммов на пять, запечатанная жестяная банка сгущенного молока из командировочного пайка.
– Никого не разбудил? – тихо, почти шепотом спросил он. – Мог прилететь завтра утром, но не выдержал. Я так спешил к вам…
Юля крепко прижалась к этому колючему, насквозь пропыленному человеку, вдыхая его родной запах, смешанный с запахами незнакомого табака, длинной дороги и безмерной усталости.
Наконец после многих дней изнурительной работы Абрам блаженно «отмокал» в ванне с пышным облаком перламутровой мыльной пены, тщательно отскребал щетину и дорожную грязь. Потом камнем рухнул в постель с чистым, отглаженным бельем и мгновенно уснул. Он спал почти двенадцать часов подряд, а утром было стремительное пробуждение и марш-бросок в институт – писать отчет. Чтобы описать красоту гор и ужас разрушений, нужен был художник или поэт. Научный отчет требовал протокола, сухих цифр, результатов измерений, расчетов и трезвого анализа фактов с четко обоснованными выводами. Никаких эмоций.
Через несколько дней отчет был закончен: измерения тщательно обсчитаны и многократно проверены, результаты сведены в таблицы и графики, все распечатано в нескольких экземплярах и отправлено в министерство. Десятого февраля Абрам поставил свою последнюю подпись в каком-то военном ведомстве и вздохнул с облегчением. Наконец-то можно попросить у начальства парочку дней отгула, хорошенько выспаться и отдохнуть.
По пути домой ему предстояло пересесть на троллейбус у Зоопарка. После теплого светлого вестибюля метро на улице было особенно мерзко – жуткий ветер, пробирающая до костей февральская сырость, под ногами адская каша подтаявшего и вновь смерзшегося снега, перемешанного с песком, солью, плевками и окурками. В такую погоду, как говорится, хороший хозяин собаку не выгонит. Уходящая зима брала реванш. Сильные порывы ветра гнали по небу тяжелые, набухшие от мокрого снега тучи, разрывая их в клочья и позволяя на мгновенье одинокому солнечному лучу высветлить их края. Словно поддразнивая, приоткрывалась тогда ярко-голубая лужица неба, и мгновенно все снова затягивалось беспросветной мрачной тоской. Ледяной северный ветер, не ослабевая, насылал на город очередную колючую метель. Пешеходы с опаской семенили по тротуарам, неуверенно балансировали на обледенелых булыжных мостовых, порой взмахивая руками-крыльями в стремлении удержаться на ногах, чертыхаясь, поминая дворника, его мать и непогоду, еще долго что-то сердито бурча себе под нос.
Подняв воротник, Абрам выскочил из метро и увидел на конечной остановке свой троллейбус. Выбрав удобный момент, стараясь не угодить в прихваченные льдом лужи, он решительно перебежал по скользкой брусчатке на другую сторону улицы, к табачному киоску, где обычно покупал сигареты «Шипка». Получив сдачу, быстро сунул в карман пальто пачку и монеты и уже собрался рвануть к остановке. И тут они встретились глазами – человек и мокрый, дрожащий от холода несчастный пес, бессильно привалившийся к облупленной обледенелой стене старого дома, на углу которого стоял киоск.
Глава 3
Машина времени
На шее у пса болтался потертый кожаный ремешок, сделанный из остатка брючного ремня, но поводка не было. Нос собаки был разбит, между лап на грязном снегу виднелись размытые следы крови. Абрам машинально потянулся к замку своего «дипломата», но у него с собой не было ничего, что можно дать собаке, – свой бутерброд он доел еще по пути из министерства. В полупустом чемоданчике остались только несколько чистых листов бумаги, толстая тетрадь с недавними расчетами и пара шариковых ручек.
Человек и собака напряженно смотрели друг на друга, пытаясь понять, кто есть кто, и не решаясь сделать первый шаг.
«Ты чей? Ты, что ли, тоже оттуда?» – вдруг подумалось человеку. Но что могла ответить собака? «Разве ты поймешь? Это длинная история». И оба продолжали стоять, молча глядя друг другу в глаза.
Прошло бесконечно много лет,По часам – пятнадцать минут[1].Решение пришло само. Абрам поднял руку и остановил такси:
– С собакой возьмете?
– Куда? – спросил водитель.
– Ну, к ветеринару какому-нибудь. На Цветной, наверное. Других не знаю.
Таксист мотнул головой. Не порожняком же кататься.
– Ладно. Давай, тащи свою собаку.
– Она не моя. Просто собака. Кажется, покалеченная…
– Ну ты даешь! К ветеринару… Чужую собаку? На такси?
– Пожалуйста, у меня совсем мало времени.
– Ну-ну, только сам за ней вытрешь, – ответил таксист и вздохнул про себя: «Надо же…»
Абрам открыл заднюю дверь машины и сказал: «Ну, пес, залезай, а то я и так с тобой задержался».
И пес все понял. Забраться самому было трудно, но все-таки он сумел. Почему он доверился этому человеку и влез в чужую машину, всю пропахшую бензином, дешевыми папиросами, отвратительными духами и еще тысячей чужих запахов? Как почувствовал, что ему хотят помочь? Чем ему пахло от этого усталого, насквозь прокуренного бородатого человека? Что он сумел прочесть в его глазах за мокрыми стеклами очков? Или своим особым, собачьим чутьем понял, что это его единственный и последний шанс выжить? Выжить – в этом чужом и негостеприимном месте, среди бегущих мимо равнодушных людей, редких любопытствующих бродячих собак и плюющихся мокрой грязью автомобилей. Больше никого вокруг не было, только злой холодный ветер и ледяная земля под ногами. И – этот, другой. ЧЕЛОВЕК!
На Цветной к ветеринару они приехали, когда там как раз начинался обеденный перерыв. Врачи и сестры, на ходу сбрасывая халаты и натягивая свои шубейки и куртки, торопились в ближайшее кафе или домой – перехватить тарелку супу или выпить горячего чаю.
Бородатый мужчина с мокрой рыжей собакой у ног сидел на стуле и терпеливо ждал хоть какого-нибудь просвета в очереди – ведь у него не было даже талона на прием. Неожиданно последний из пробегавших мимо врачей вдруг обернулся и спросил: «Эй, а что с вашей собакой?» – «Не знаю. Она не моя, я ее просто подобрал на улице. По-моему, ей плохо». Ветеринар на секунду присел на корточки и посмотрел собаке в глаза. «Катя! – крикнул он сестре. – Я не иду». И тут же бросил бородатому: «Тащи собаку в смотровую».
Собака была не только мокрая и грязная, но на удивление тяжелая. Почти безжизненное черно-рыжее тело взгромоздили на металлический стол. Он, а это был именно он, то пытался поднять голову, то снова ронял ее на стол. Огромные черные глаза вопросительно и даже с испугом смотрели на людей.
– Ну, потерпи, пес, – тихо проворчал ветеринар. – Тебе уже один раз повезло сегодня, видишь, подобрали, к нам привезли. Может, повезет еще раз – и будешь жить.
Как говорят врачи, анамнез был тревожным. Перелом ребра (похоже, кто-то сильно ударил его ногой снизу – скорее всего, сапогом), трещина или даже перелом задней лапы. Нос ободран, кровоточит. Но самое неприятное – огромная рана с неровными краями на животе и внутренней стороне бедра. Кусок кожи был вырван так, как могут драть только специально натасканные собаки вроде лагерных, насмерть. Видно, натравили на него сильного злобного пса, крупнее и мощнее его. Открытые ворота для инфекции, к тому же большая кровопотеря. С такими ранами и без серьезного ухода собака вряд ли выживет.
– У вас когда-нибудь собаки в доме были? – спросил ветеринар.
– Нет. Никогда.
– И что делать будете?
– Еще не знаю… Повезу домой. Там видно будет.
Ветеринар покачал головой и начал быстро промывать и зашивать рану. Закончив свою работу, он вытащил из шкафа серую, уже ветхую от бесконечных стирок, но чистую простыню и протянул Абраму.
– Возвращать не надо. Заверните собаку, рана еще кровоточит. А может, все-таки оставите ее у нас? Нет? Ну, удачи вам.
Абрам хотел заплатить за визит, но врач от денег категорически отказался. И был это второй Человек на пути несчастной собаки. Человеки! Лю-ди! Все-таки есть еще Люди!
С собакой на руках, словно неловкий отец первенца, Абрам вышел на Цветной бульвар и остановился у самой кромки тротуара. Фонтаны грязного мокрого снега взлетали из-под колес проезжавших троллейбусов. Мгновенно намокли брюки и укрывавшая собаку простыня, и ее свободно болтавшиеся углы с каждым порывом ветра тяжело шлепали по ногам. Поднять руку, чтобы поймать такси, было абсолютно невозможно. Но Абрам почему-то был уверен, что его, стоящего у края мостовой, кто-нибудь обязательно заметит и подберет.
Словно вняв его немой мольбе, перед ним вдруг остановилась машина с зеленым глазком, и таксист приоткрыл дверь: «Эй! Садись, друг!» Ему сегодня явно везло – третий! Он осторожно положил собаку на заднее сидение, поправил под ней простыню, сел рядом и с улыбкой поблагодарил водителя. Потом назвал адрес, и машина тронулась. Скорее бы домой! Но уже через квартал движение застопорилось, машина начала непрерывно притормаживать, замирая на месте каждые сто метров. «Чертова погода!» – проворчал водитель.
В машине собака лежала тихо, не скулила, лишь изредка с трудом приподнимала голову, лежавшую на коленях незнакомого человека, почти невидящим взглядом упиралась в его лицо, будто пытаясь понять, где она и кто этот человек. Но от резкой боли в боку сознание ее начинало быстро мутиться, глаза закрывались, и голова снова бессильно опускалась на чужие колени.
Чувствуя беспокойство пса, Абрам перебирал пальцами шелковую шерсть, нежно, словно плачущего ребенка, гладил его по голове, легонько трепал мягкое теплое ухо и шептал ласковые слова: «Хорошая ты собака, потерпи немного. Дома мне расскажешь, что с тобой приключилось. Ну, не словами, а как сумеешь. Мы тебя не обидим, не бойся, не бросим, не выгоним. Выходим как-нибудь, а там посмотрим… Может, найдется твой хозяин. А нет – останешься у нас, будешь нашей, назовем тебя Подкидыш. Нет, не годится. Слишком длинно… Ладно, потом придумаем».
Рука человека была легка и тепла, ласковое прикосновение не причиняло боли, и полусонная собака, вслушиваясь в бормотание человека в надежде уловить в его словах хотя бы свое имя, все с большим трудом удерживала и без того неясное сознание, пока наконец совсем не затихла. Заснула.
Абрам тоже замер, речь остановилась на полуслове. Он прислушался к дыханию спящей собаки: «Дышит. Слава Богу!»
Внезапно у него в голове шевельнулась странная мысль: а ведь и он сам – «подкидыш»! Почему, собственно, его усыновили тогда эти люди? Хоть и бездетные, они были уже пожилыми и к тому же нищими как церковные крысы. А в какой жалкой, убогой, разваливающейся халупе с «удобствами» на улице они жили! Комната в бараке с множеством дверей. Даже не комната, а узкий пенал с единственным окном в торце, у самой входной двери, с «кнопочным» цинковым умывальником над старым помятым тазом на табуретке и двумя керосинками на дощатом кухонном столе. Каким образом он оказался у них дома? Какой это был год? Сорок четвертый или сорок пятый? Неужели ему было всего четыре года? Или уже пять? Вроде бы вспомнил! Вспомнил, или это ему только кажется? Абрам закрыл глаза.
Когда ему сказали, что скоро он поедет на поезде в гости к тете Розе и дяде Яше и увидит большой город, он даже обрадовался – ехать в настоящем поезде! Они с мамой никогда не ездили на поезде. Потом ему сообщили, что он поедет не один, а с тетей Лизой и что мама пока останется дома и будет его ждать. Может, ему и было немного страшно ехать без мамы, но ожидание необычного путешествия приятно бередило детское воображение, пока наконец эта радость не сменилась тревогой – он не хотел ехать один. Хотя, конечно, ребенок не мог и представить себе, что его собираются увезти навсегда, никогда не привезут обратно и что маму он больше не увидит.
Пока мама складывала его одежду, он неотрывно смотрел то на ее руки, то на лицо и все время хотел что-то спросить, но не знал, что именно. Мама почему-то молчала и только смотрела на него покрасневшими глазами. Он тоже молчал, не умея выразить словами противоречивые чувства. Еще вчера ему хотелось поехать в поезде, а сейчас вдруг появился какой-то страх перед дорогой и особенно – перед разлукой. Он совсем не хочет уезжать от мамы! Только если немного прокатиться на поезде и сразу домой… Но в тот момент все уже было решено, о его желании никто не спрашивал.
Потом поезд много-много дней вез их из Ташкента в Москву. Дорога была очень длинной, и время тянулось бесконечно. Хотя рядом была тетя, ему было страшно и одиноко в душном, набитом людьми вагоне, пропитанном тяжелым запахом немытых тел и папиросного дыма. Он испуганно, но с любопытством разглядывал всех этих чужих людей, которые целыми днями сидели, стояли, лежали, ели, спали или храпели рядом. Пространство под нижними полками, столиками и даже проходы были завалены перевязанными веревками чемоданами, бесформенными мешками и корзинами. Иногда ему хотелось хоть чуть-чуть побегать, попрыгать, но свободного места нигде не было. Там, где не лежали мешки, на грязном полу валялись стоптанные сапоги, калоши, сморщенные от долгой носки грязные ботинки тех, кто спал или просто лежал на верхних полках. Поэтому днем он забивался в уголок их с тетей нижней полки и подолгу смотрел в покрытое жирной паровозной копотью окно.
Вечером на третьи сутки, когда он уже немного привык к вагонному быту, в нем вдруг проснулось странное недетское чувство, что его обманули, увезли от мамы навсегда! Жгучая обида пронзила все его существо, и он неожиданно для самого себя громко навзрыд заплакал, судорожно всхлипывая и теряя дыхание. Тогда чей-то хриплый голос с верхней полки проворчал зло: «Ну, завыл! Не реви, слышишь! Всем спать надо! Уймите ребенка, мамаша! Или в тамбур валите!» От испуга он на мгновение замолчал, но остановиться уже не мог. Тетя Лиза, которая спала с самого краю, оберегая, чтобы не упал с полки, проснулась, прижала его к себе и стала гладить по голове, шепотом уговаривая не плакать так громко. Он попытался объяснить ей, что больше не хочет ехать в этом противном вагоне, а хочет обратно домой, к маме, но слезы полились еще сильнее, рыдания стали еще более отчаянными. Тогда тетя Лиза достала откуда-то и сунула ему в одну руку кусок черствой лепешки, а в другую – несколько черных блестящих изюмин: «На, Аба, поешь немного! И не три глаза грязными руками!»
Слезы все равно не останавливались, худая грудка под тонкой майкой вздрагивала от сдавленных рыданий, и лепешка никак не попадала в рот. Наконец ему удалось откусить кусочек, следом он запихнул в рот большую мятую изюмину и, продолжая тихо всхлипывать, начал медленно жевать. Устав от собственного плача, он постепенно успокоился и уснул, даже во сне продолжая непроизвольно всхлипывать.
С этого момента каждый раз, когда он пытался что-то сказать или спросить тетю Лизу, слезы почему-то сами по себе начинали булькать в горле, и он сразу испуганно замолкал. Только ночью, когда в вагоне гасла последняя тусклая лампочка и все ненадолго, до следующей остановки поезда, засыпали, слезы добирались до глаз и свободно лились на ситцевый мешочек с его вещами, на котором он спал вместо подушки. С той ночи он научился плакать тихо, чтобы никто не слышал.
Абрам смутно помнил, как они шли через толпу по перрону большого шумного вокзала, где так едко и противно пахло от паровоза, что хотелось кашлять совсем как мама, но все равно было легче дышать, чем в вагоне. Тетя Лиза тащила его за руку по грязному перрону, он натыкался на острые края деревянных чемоданов идущих впереди пассажиров, чужие сумки и коробки. Стоящий на соседних путях паровоз вдруг издал пронзительный свист и выпустил острую струю пара ему в лицо. От неожиданности он прыгнул в сторону и попал под ноги человеку с костылем. Человек что-то крикнул и легонько ткнул его своим костылем в спину. Было не больно, но обидно.
Потом они переходили на какой-то другой перрон, снова садились в вагон и опять ехали, но теперь он сидел на скамейке у окна и смотрел, как быстро-быстро проносятся мимо большие и маленькие дома, машины, тупоносые автобусы, люди, деревья, коровы за забором и столбы с проводами. Это было интересно, но все равно ехать ему больше не хотелось, хотелось только устроиться где-нибудь и поспать. Потом они тряслись в набитом людьми и сумками душном автобусе, где он был зажат между мятыми юбками и потертыми брюками, от запаха которых его почти укачало. Периодически автобус притормаживал, пассажиры в салоне менялись, но свободнее не становилось. В какой-то момент он стал засыпать стоя, но в то же мгновение тетка в синем форменном халате, продававшая билеты на проезд, громко выкрикнула название остановки: «Кто спрашивал улицу Коминтерна? Следующая!» И тетя Лиза, крепко ухватив его за руку, потянула к выходу. Однако когда автобус остановился, Абрам легко спрыгнул на землю и как-то судорожно вздохнул. Воздух вокруг был какой-то легкий, в нем витал знакомый запах теплой глиняной пыли и сухой травы.
Глава 4
Улица Коминтерна
Незнакомая улица ему сразу понравилась – вокруг было много деревьев, зеленой травы и ярких цветов на длинных ножках. Тетя Лиза быстро отыскала нужный дом, потом нужную дверь и нажала кнопку звонка. Дверь открылась, и невысокая пожилая женщина появилась на пороге, вытирая руки холщовым передником. Перед ней стоял маленький худенький мальчик с бледной, почти прозрачной кожей и большими испуганными глазами. Она светло улыбнулась, неловко, с явным усилием присела на корточки и нежно обняла его своими распухшими от стирки руками. Глаза ее почему-то сразу наполнились слезами. Уткнув лицо мальчика в свой пахнущий кухней передник, она крепко прижала его к себе, бормоча: «Абочка! Родной… Сиротка ты моя, киндерлах». Это слово он знал. Это было мамино слово. Но почему эта тетя назвала его так, он не понимал.
Попятившись, тетя в переднике буквально втащила его в комнату, а следом за ними вошла тетя Лиза. За столом на высоком табурете сидел пожилой мужчина в толстых очках и, прищурившись, вдевал в иголку длинную черную нитку. Увидев гостей, он не глядя воткнул иголку в серую подушечку на левой руке, в которой уже торчало много булавок, снял с колен какую-то недошитую вещь и, отодвинув от края стола утюг, встал навстречу гостям.
– Ну вот, – сказала Лиза, – привезла вам племянника. Он послушный мальчик, умненький. Будет вам веселее, и ему хорошо. Ну, иди к ним, Абочка, не бойся! – добавила она и подтолкнула в плечо. – Подойди, поздоровайся. Это дядя Яша и тетя Роза.
Незнакомый дядя Яша протянул руки ему навстречу, но мальчик недоверчиво взглянул на него и попятился к двери. Тогда тетя Лиза положила на пол мешочек с его вещами, бережно достала из своей сумки и поставила на кухонный стол пол-литровую баночку сливового варенья, бумажный кулек с изюмом, пакет с сушеными фруктами и оставшиеся лепешки.
– Очень мы устали с дороги. Давайте лучше сначала чаю попьем, а потом будем разговоры разговаривать.
Тетя Роза радостно кивнула и поставила на керосинку чайник. Через несколько минут все четверо – тетя Роза в цветастом переднике, тетя Лиза в кофте с оторванной пуговицей, потерявшейся еще в поезде, дядя Яша в выпуклых очках, но уже без подушечки-ежика на руке, и мальчик с большими испуганными глазами, – сидели и пили чай с привезенными гостинцами. Взрослые еще долго о чем-то разговаривали, а он так устал с дороги, что неожиданно для себя вдруг заснул, уронив голову прямо на стол, даже не дожевав кусочек хлеба, специально для него намазанного тонким слоем маргарина и посыпанного сахарным песком.
Проснулся он на старом диване, около которого стоял стул с его вещами. На улице было совсем темно, тети Лизы в комнате не было. Он проспал сутки, полностью потерял представление о времени. Со сна он никак не мог узнать комнату, в которой заснул накануне, с ужасом подумал, что тетя Лиза его бросила, и очень испугался. Но не заплакал. Осторожно приподняв голову, посмотрел вокруг. Незнакомые стены, незнакомый, весь в трещинах потолок с желтым пятном в углу, тусклая лампочка под оранжевым абажуром со стеклянными бусинками по краю – такого у них с мамой никогда не было. Вчерашняя женщина, которую тетя Лиза называла Розой, стояла у кухонного столика, и на сковородке у нее что-то скворчало. Услышав скрип диванных пружин, тетя Роза обернулась.
– Ну что? Отдохнул немножко? Тогда умой личико и садись за стол, сынок, – ласково сказала она.
Почему она назвала его «сынок»? Наверное, по ошибке. Но он не обиделся. Может, просто не запомнила, как его зовут?
Пока он доедал свой ужин, тетя Роза все время смотрела на него, грустно покачиваясь всем телом вправо-влево и сокрушенно бормоча, какой же он худенький и слабенький. А дядя Яша перебирал его нехитрую одежку, внимательно рассматривал дырки на брючках и тоже изредка качал головой. Потом его долго отмывали от дорожной пыли в стоящем на полу тазу, поливая теплой водой из синей эмалированной кастрюльки с длинной ручкой (у мамы была такая же, только с коричневой ссадиной на месте отбитого куска эмали, совсем как болячка на его коленке), и вытирали большим мохнатым полотенцем. Полотенце было старое, местами протертое, но очень мягкое и быстро-быстро впитывало все капельки воды с тела.
За ужином тети Лизы не было, она уже уехала. Уехала одна, без него! Значит, все-таки обманула?! От обиды на тетю Лизу он горько заплакал. Он еще не знал слова «предательство», но какая-то странная боль заполнила все его существо. Тетя Роза пыталась его успокоить, говорила, что ему будет здесь хорошо, что надо немного подождать, когда мама выздоровеет и обязательно за ним приедет, гладила по головке, целовала в стриженую макушку, называла разными ласковыми, нежными словами. Но он их почти не слышал и продолжал всхлипывать. Укладывая его спать, тетя Роза осторожно предложила называть ее мамой, если он захочет, а дядю Яшу – папой. Но Абочка не понял, почему надо называть чужую тетю мамой, если у него есть своя, настоящая мама, которая скоро приедет и заберет его домой. Ему очень хотелось в это верить, а еще он сильно устал. Выпростав руки из-под одеяла, он потянулся своим худеньким тельцем и повернулся на бок. Первый раз после длинной дороги и неудобной полки общего плацкартного вагона под его щекой была мягкая пуховая подушка. От чистых простыней, сушившихся, вероятно, во дворе (так всегда делала его мама), пахло свежим весенним ветром и какими-то травами. Он непроизвольно несколько раз втянул в себя этот домашний, почти забытый за дорогу запах и мгновенно уснул, уткнувшись носом в кулачок.
Снилось ему, что едет он обратно к маме в том же вагоне, сидя в том же уголке на первой полке, и смотрит в то же закопченное окошко. Но стекло совсем почернело, и сквозь него невозможно что-нибудь рассмотреть. Одно мелькание теней и вспышек света встречного поезда. Но зато он твердо знает, что скоро приедет домой, что поезд вот-вот остановится и он выберется из этого душного вагона. Но поезд почему-то все никак не останавливается, ему скоро выходить, но выходить на ходу не разрешается никому, а поезд все идет и идет… И вот поезд уже проехал станцию, где его ждет мама, и он кричит и кричит этим людям, чтобы выпустили его из противного вагона. Но его никто не слышит… Он бьет кулачками по чьему-то пальто, по спине, по ногам, но никто не чувствует его ударов и не оборачивается. В отчаянии он садится на пол, окруженный опять только ногами, мешками и чемоданами, и горько плачет. Он совсем не понимает, что ему теперь делать и что с ним будет. Он плачет во сне, плачет настоящими слезами и… просыпается.
Кто-то сидит рядом с ним и гладит, гладит его по голове: «Не плачь, киндерлах. Не плачь, маленький. Все будет хорошо». Мальчик силится понять, где же он, кто гладит его по голове, но безуспешно. Слишком много впечатлений за один день.


