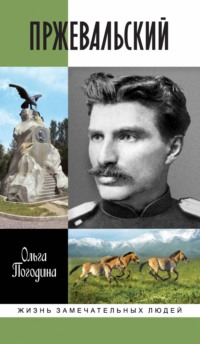Полная версия
Остров Беринга


Ольга Погодина
Остров Беринга
Знак информационной продукции 12+
© Погодина О.В., 2020
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
Сайт издательства www.veche.ru
Остров Беринга
Пролог
Санкт-Петербург, 3 февраля 1733 года
– Гляди-тка, Алешка! Едут!
Мальчик поглубже вдавил шапку в уши, ежась на промозглом ветру. Толпа вдоль дороги заволновалась, наплыла на окружавшие Большую першпективу[1] ржавые сугробы. Кто-то, покачнувшись, чуть не упал под копыта. Лошадь взвилась на дыбы. Всадник, – угрюмый офицер в васильковой, под цвет мундира, епанче, – в досаде огрел неудачника нагайкой.
– Шпанберг, – сказал Алешка – рослый гардемарин, одетый в новенький зеленый кафтан и башмаки со штиблетами. Двое его спутников помладше, кадеты, вытянули шеи, разглядывая сердитого капитана.
– Вона как ежеват! – протянул самый младший – тот, что кричал.
– Немчура, – скривился второй, лет четырнадцати на вид. – У нас их нынче везде полно. Что ни чин – все гость заморский. Нешто оные иноземцы и впрямь умом превыше?
Говорил он важно, басовито, явно повторяя чужие слова.
– И у нас в Академии им чести много, – подхватил Алешка. – Иные и впрямь горазды поболе к рукам прибрать! Но по делу морскому им перед русскими фора выходит. Морей-то у нас нету почти…
– Вот так они вас, в Академии, зад лизать и обучают!
Алешка насупился, стиснул кулаки:
– Ты, Федька, еще баять посмей! Не погляжу, что Еропкин – в ухо двину!
– Мой тятенька в полку Преображенском обер-офицер, не забыл? – набычился Федор, но уже без прежнего запалу.
– Ты посмотри, Федька, обозам конца нет, – мальчик украдкой загибал пальцы, считая. – Тут не меньше ста подвод будет!
– Да уж поди, им до самого Тобола дорогу канифасом[2] выстлали! – фыркнул Федор, покосившись все же на Алешку.
– В Академии говорили, что с экспедицией не токмо людей служилых, а профессоров и академиков с самого Парижу послали!
– Эхма, а что это на санях повезли? Котел што ли такой агромадный?
– Балда ты, Петька! Астролябия это! У нас в навигацком классе такая вот дура медная была. А вон та железяка на ней – это паук! – с гордостью выпалил Алешка.
– А зачем эта дура?
– Счисление делать и плавать по морям. Без счисления в море пропадешь!
– И к чему им в Сибири счисленье делать? Там же снег один!
– А вон, смотри, что за санки разукрашенные? Курам на смех какое фанфаронство!
– Да это ж бабы! Ей-богу! Бабы едут!
– И с детями!
– Малые совсем! Годочка три вон тому, без шапки, а девчушка и вовсе крохотная!
– Эта, в соболях и красном платке – я ее знаю! – обрадовался Алешка, тыча пальцем. – Сама Берингша это. Жена Беринга, капитан-командора!
– А другие? – Федор цыкнул зубом на проезжавшие мимо сани. – Вон та, с мальчишкою белобрысым, уж больно худа и мала. А чернявенькая-то хороша! Чудо как хороша!
– Эту не трожь! – насупился Алешка. – Это Татьяна Федоровна, лейтенанта Василия Прончищева жена. Любовь у них страсть какая! Видал я ее летом в Тарусе, с дядькой в гостях в Прончищевых бывали!
– Ты что, Алешка, амуры развел?
Алешка смутился, покраснел, и его спутники прыснули.
– И третью знаю, она там тоже была, – торопливо, чтобы скрыть смущение, сказал Алешка. – Ее Ульяной звать, она во-он того здоровенного шведа, лейтенанта Вакселя жена!
– Чтой-то Вакселишка этот себе такую невзрачную нашел? – съехидничал Федор, – Сам-то – косая сажень, росту богатырского! А на такую пигалицу польстился!
– Кто его разберет, Вакселя-то. Они, знаешь, не наша порода. Себе на уме все!
– А мальчишка-то смотри какой ерошка![3] – засмеялся Петька, глядя, как тот вертится в санях.
– Да хилый больно. Вон у командорши какой толстенный! А этот? Нет, не жилец. Сгинет!
Помолчали.
– Ты мне, Федька, вот что скажи, – задумчиво произнес Алешка, провожая взглядом санки. – У нас в Сибирь клейменых каторжан ссылают, а эти немчуры, получается, сами едут. Ежели они все такие проныры, как твой тятенька Родион Григорьевич говорит, что ж им там за золотые горы?
* * *– Опахнись, Лавруша! Простынешь. – Ульяна в пятый раз натянула овчинную шапку сыну на уши. Непослушный постреленок, в отличие от упитанного степенного Антона Беринга, вертелся в санях, как уж, и шапку сбрасывал.
– Не хочу. Жарко! – выпалил мальчик, и снова сбросил шапку, с любопытством высовываясь из саней. Ульяна устало и извиняюще улыбнулась Анне-Кристине Беринг, чьи дети, – трехлетний Антон и двухлетняя Аннушка, – c истинно немецким послушанием чинно сидели рядом с матерью, закутанные в пуховые шали.
Анна-Кристина лишь подняла бровь, и Ульяне почудилось, что вся она жалка и растрепана перед этой величавой дамой, чьих детей крестил сам князь Долгорукой, а в дом захаживали важные заморские гости.
Говорила Анна с сильным немецким акцентом, а на санях сзади, – подумать только! – ехали за ней в Сибирь прислуги человек пять, да целый воз скарба. Говаривали, что и сервиз фарфоровый везут. И клавикорды!
– А ну, Лорка, сядь смирно! – Татьяна Прончищева, уловив неловкость подруги, подхватила малыша и, усадив его себе на колени, принялась что-то ему на ушко нашептывать.
Она всегда звала его этим смешным и странным прозвищем.
«Лаврушка – это дерево заморское такое, да разве ж ты у нас дерево? А Лоренц вовсе не по-нашему. Вот я посередке и придумала. Будешь Лорка?!»
«Буду!» – хохоча, отвечал малыш…
– Вот и славно. Ты, Ульяна, токмо не бойся так. – Татьяна была моложе, но считала своим долгом оберегать менее решительную, застенчивую спутницу. – И Лорке полегчает.
– Далеко-то как едем… – еле слышно выдохнула Ульяна. – Страшно…
– Такой наш долг, – чопорно произнесла Анна по-русски, вздернув пухлый подбородок. – Жена да последует за мужем.
Ульяна опустила глаза. Анна-Кристина ей не нравилась. Не нравилась ее властная уверенность в себе, не нравилась сводящая с ума чопорность. Все они, эти иностранцы, во множестве приехавшие в Россию, были другими. Даже Свен, ее муж.
Свен… С ним все было не так, как бы ей хотелось. Эта холодноватая сдержанность, эта отстраненность. Иногда ей казалось – лучше б накричал, лучше б напился пьяным, чем так:
– Надлежит мне сопровождать командора Беринга в Камчацкую землю. Вы поедете со мной?»
Ульяна осмелилась лишь спросить:
– Далеко ли?
– Весьма, – коротко ответил Свен. И он уже был не с ней, он был где-то далеко-далеко, наклонив белокурую голову над разложенной по столу ландскартой.
– А как же… как Лавруша? – Она тогда еще даже не закончила кормить сына грудью – несмотря на маленький рост и хрупкое телосложение, молока у молодой матери было хоть отбавляй, и кормила она сына сама, не доверив никаким деревенским мамкам.
– Лоренц? – Муж недоуменно посмотрел на нее. – Вы хотите оставить Лоренца здесь?
У него была такая привычка – не отвечая, задавать ровным тоном невозможный вопрос.
– Господь с вами! – возмущенно вскинулась Ульяна.
– Так надобно сборы вам сейчас учинять. – И он снова погрузился в карту.
Вот и весь разговор.
Лаврентий тем временем занялся тем, что начал дергать Антона за ногу. Тот вышел из своего чинного состояния и принялся отчаянно брыкаться, а затем басовито заревел.
Анна-Кристина, скрестив руки, молча наблюдала за сыном, пока он не замолк, судорожно всхлипывая.
– Не можно детей баловать! – Она и не повернулась к Ульяне, но та знала, что укор адресован ей. Хоть Лавруша всегда был таким, с самого рождения – любопытный и верткий, как белка, мальчик, едва научившись ходить, умудрялся везде пролезть, все переворошить и разбросать. Одно слово – ерошка!
Отстав от Антона, он решительно двинулся к Анне-Кристине и, невзирая на самый надменный ее вид, бесстрашно дернул за длинную бахрому красного платка.
– Лоренц! – Анна-Кристина сказала это точно тем тоном, каким с ним говорил отец. Но мальчик не отстал. Улыбаясь во весь рот, он продолжал исследовать бахрому.
– Лавруша! – Ульяна торопливо отцепляла его пальчики от платка командорши.
«Пресвятая Богородица, только б не нажаловалась! А ведь выехали едва!»
– Мне не стоило ехать здесь, – по слегка дрожащим ноздрям Ульяна поняла, что Анна в бешенстве. – Вы не склонны с детьми обхождение иметь!
– Нет, это вы не склонны с детьми обхождение иметь! – гневно выпалила Таня Прончищева, умело отвлекая внимание Лаврентия и снова сажая мальчика на колени.
Прежде чем оторопевшая командорша сумела что-либо сказать, из толпы напротив неожиданно вынырнули мальчишки. Один постарше, другой помладше, лет десяти – двенадцати. Тулупчики нараспашку, шапки набекрень, – они наперегонки помчались за санями, оставив далеко позади проваливавшегося в рыхлый снег и пытавшегося их удержать мужчину.
Лицо Анны-Кристины окаменело.
– Матушка! – Старший догнал сани, запрыгнул на полозья, изрядно их накренив. – Мама!
– Йонас!
– Сбегли мы от дядьки! С тобою в Сибирь хотим! И с тятенькой!
– Йонас! – Второй мальчик догнал сани и повис на задке. – Томас!
– А коли в санки не возьмешь, пешком пойдем! Пошто дядька нас запер?! – выпалил, задыхаясь, второй.
– Велела – домой! – Анна-Кристина, приподнявшись в санях, хлестко ударила сына по руке, державшейся за бортик саней. Потеряв равновесие, мальчик кубарем покатился в снег.
– Мама! – Томас прятался за головы женщин. – Мамочка!
– Домой, Томас!
Под суровым взглядом матери мальчик отпустил руки сам. Спрыгнул с полозьев и остался стоять на дороге, – несчастный, потерянный. Брат, размахивая руками, догнал его, обнял.
Анна-Кристина сидела молча и прямо, словно на приеме у императрицы. Ее лицо слегка подергивалось под слоем пудры. Ульяна, замерев, в ужасе смотрела на нее. Из глаз Анны-Кристины на красный платок упала сначала одна, потом вторая крупная, тяжелая слеза, – пока они не полились градом по неподвижному лицу. Татьяна, – добрая душа, – потянулась было обнять командоршу.
– Не сметь! – придушенным голосом вскинула руку Анна-Кристина. – Не сметь иметь ко мне жалости! За мальчиками хорошо смотреть. Этих жалейте! – Она обняла обеими руками Антона и Аннушку. – Этих! – Рука в перчатке ткнула в Лоренца. – В Сибирь! Как воры, – на каторгу! За что?
Плечи ее затряслись.
– Это наша земля. – Брови Татьяны Прончищевой сошлись на переносице, красивое лицо стало суровым. – Далекая, дикая, – но наша. Нам ее обживать должно. Нам, и им! – А как иначе? Так ведь, Лорка?!
Глава 1
Юдомский крест
1 апреля 1738 года, Охотск
– Весна называется, – проворчал капитан Алексей Чириков, поплотнее кутаясь в видавшую виды епанчу. – Дома-то, поди, уже снег сошел. Солнышком землю пригрело, теплой землей пахнет…
– Да. Студено, – коротко отозвался старший лейтенант Ваксель, не поворачивая головы к попутчику. – Однако ж оно и к лучшему.
– К лучшему?!
– Куда как обидней было б снова впустую на берегу сидеть.
– Может, ты и прав, Ксаверий Лаврентьевич, – вздохнул Чириков.
Чем больше он узнавал Вакселя, тем больше менял свое мнение о «шведишке». В начале огромного пути Чириков Вакселя недолюбливал: все же швед, а после Северной войны моряку к бывшим врагам приязнь иметь трудно. Да и уж больно тот был сух и высокомерен. Шутка ли, – в любую погоду, в любом месте носил мундир, завитые букли и шляпу, с нижними чинами (да и с вышними, впрочем) якшался лишь по делам служебным, и выглядел, шельмец, всегда так, словно перенесся прямиком из Санкт-Петербурга.
Экспедиция, растянувшаяся на долгие годы, вмещала людей всяких. Вместе с Берингом ехали на бесконечных подводах свежеиспеченные офицеры, вчерашние мальчишки, и бывалые, знававшие лютые сибирские зимы казаки. Ехали служивые – кузнецы, плотники, конюхи, лесорубы. От Тобольска приняли до полутора тысяч ссыльных – угрюмых, страшных. И, говаривали, когда от Усть-Кута ссыльные убегать стали, Ваксель распорядился через каждые двадцать верст ставить виселицы, «чтоб неповадно было».
Однако своими глазами Чирикову другое увидеть довелось. Путь от Якутска до Охотска морем оказался заказан – так и не смогли отряды, посланные вниз по Лене, морского сообщения разведать. Погибли многие. Погибли, истощенные скорбутом[4] в устье Хатанги Василий и Таня Прончищевы, так и не сумев пройти морским путем от Лены к Енисею. А потому Беринг принял решение продолжить путь сушей. И еще два бесконечных года лейтенант Ваксель руководил переброской грузов из Якутска в Охотск.
«Ежели Господь и хотел наказать нас за грехи наши тяжкие, то и наказал нас здесь. Юдомским крестом!» – однажды Чириков услышал эту в сердцах брошенную кем-то из казаков фразу, и она занозой засела в груди. Все снаряжение двух экспедиций – людей, лошадей, провиант, такелаж будущих судов – надо было перебросить из Якутска в Юдомский Крест, – небольшое селение в двадцати немецких милях от Якутска, на реке Юдоме, а оттуда – в Охотск, выбранный Берингом гаванью для постройки судов.
Отряд капитана Мартына Шпанберга вышел в Охотск загодя, чтобы построить суда для путешествия в Японию и заложить корабли для Американской экспедиции. Вестовые привозили оттуда все более и более раздраженные требования: не хватает людей, инструмента, провианта, якорей, канатов… Единственный проходимый путь – санный, по льду замерзших рек: прорубать в дикой тайге просеки было делом безнадежным. Для лошадей, на которых первоначально решили перевозить груз, в Юдомском Кресте не оказалось должных запасов корма. Беринг застрял в Якутске, разбираясь с очередным доносом.
На Вакселя сыпались упреки, распоряжения одно несуразней другого: поворачивать назад в Якутск, послать отряд для разведки судоходного пути к берегам Охотского моря… Сам Чириков считал, что надо до последнего дня использовать открытую воду, чтобы – хоть на тунгусских каяках! – сплавляться в Охотск. Но Ваксель вместо того тратил драгоценное время и занимался делом вовсе глупым – через каждые две версты ставил по берегу Юдомы верстовые избы, словно бы из множества дел его более всего заботили удобства вестовых Шпанберга.
Чирикову тогда казалось, что это конец. Что придется возвращаться, так и не выполнив миссии, ради которой вся эта огромная масса людей оказалась здесь. Он крепко повздорил с Вакселем, наговорил черт знает чего. Огромный швед не спорил, – молчал, тяжело глядя льдистыми глазами.
Снег, как и предсказывал Чириков, лег рано и крепко. И вот поползли по Юдоме, точно огромные заснеженные улитки, запряженные в сани люди. Только тогда до Чирикова дошел запоздало смысл постройки этих «теплушек», где охмелевшие от мороза и тяжкой работы люди получали чарку и краюху хлеба, чтобы одолеть следующий перегон.
Тридцать три тысячи пудов груза переправил Ваксель в Юдомский крест в ту зиму. Какой ценой – говорить не приходилось, достаточно было взглянуть на ряды крестов за околицей Юдомского острога. Но страшно было бы даже представить, как можно было бы решить иначе…
Чириков приехал на Юдому уже следом. Однако не довелось и трех дней отдохнуть: от Беринга пришел приказ немедля ехать вместе с Вакселем в Охотск, где «нашему делу зело препоны чинят».
Зимой пробираться по нехоженой тайге – наверняка пропасть. Единственным средством передвижения оставались реки. Ехали в санях по льду небольшой речки Урак. Ваксель был по обыкновению молчалив и выглядел донельзя измотанным, так что все разговоры сходили на нет. На недолгих привалах в густых зимних сумерках ложились сразу и спали мертвым сном, не боясь ни волков, ни медведей.
Охотск встретил гостей вьюгой. Когда в 1735 году Шпанберг впервые посетил эти места, здесь, судя по его донесениям, не было никаких построек, за исключением юрт ламутов – местных тунгусов, прикочевывавших к устью реки Охоты на лов рыбы и водорослей. Сейчас на заснеженном берегу виднелась россыпь изб, казармы, амбары, – стараниями людей Шпанберга и Охотской канцелярии местность обживалась. На пристани виднелись заиндевевшие мачты будущих кораблей экспедиции.
Шпанберг встретил Вакселя и Чирикова неласково, углядев в приказе Беринга какую-то для себя неприятность. Хотя, конечно, гостеприимством не пренебрег – отвел гостям свежую просторную избу, дал денщиков вычистить одежду и утварь, а вечером наведался в гости.
– Так что же, Мартын Петрович, за оказия у тебя случилась? – дождавшись наконец окончания ни к чему не обязывающих бесед, спросил Чириков.
Шпанберг угрюмо глянул на капитана из-под белесых бровей. Был он худ и высок почти так же, как Ваксель, однако отличался какой-то неприятной, нервной повадкой, в любой момент готовой перейти в ярость. Друзей за все время экспедиции не заводил, и явно в них не нуждался, предпочитая обществу людей своих собак, которых любил, специально натаскивал и везде с ними появлялся. Псы у него были злые, однако, как и сам Шпанберг, «к делу зело пригодные».
– Значит, послал-таки донос, Nisse[5], – прошипел на это Шпанберг, сощурив глаза. – Местными подлыми людишками Шкворнем зовется не зря, ай, не зря!
– О ком это ты, Мартын Петрович? – спросил Ваксель.
– О нынешнем начальнике Охотского порта, Скорнякове-Писареве, – ответил Чириков. Поскольку последний год Ваксель был занят на переброске грузов, Чириков куда лучше был осведомлен об интригах, закруживших вокруг экспедиции. Нет, не ради прихоти послал их сюда Беринг среди зимы. Достаточно было одного взгляда на белое от ярости лицо Шпанберга, чтобы понять, что без вмешательства людей беспристрастных тут не обойтись
Шкворень был человек непростой, Чириков слыхал о нем еще в бытность свою в Петербурге. Когда-то звался он директором Морской академии, генерал-прокурором Григорием Григорьевичем Скорняковым-Писаревым, знавал лично государя Петра и был им послан в учебу. Однако после смерти государя фортуна, как это бывает, отвернулась от него: за участие в заговоре против «светлейшего» Меньшикова был он бит кнутом, лишен чинов и наград и сослан в Сибирь. После же смерти оного как «человек полезный» был восстановлен в должности и назначен Начальником Охотского порта.
Казалось бы, такой человек должен быть рад тому, что именно Охотск выбран форпостом дела столь величественного и гигантского. Было к чему приложить силы – стремительно растущий порт нуждался буквально во всем, а более всего – в грамотном руководстве. А там, глядишь, и былые грехи простятся новыми заслугами…
– Каналья! Сукин сын! – бушевал тем временем Шпанберг. – Указ Сената ему не указ! Месяцами ржавого гвоздя выдавать не соизволит! Знали б вы, каких трудов мне стоило, чтобы корабли-то те, что в порту стоят, выстроить! И ведь в том году еще со стапелей спустили! Вышел бы в Японскую экспедицию еще в июле, Христом Богом клянусь! Но от вас груза нет, от Шкворня – снега зимой не выпросишь! Вот и пришлось обратно днища сушить! А людей кормить – чем? Голодаем, видит Бог, писал капитан-командору, – голодаем! А тут еще сволочь эта красномордая доносы на меня в самый Петербург пишет, будто б я имущество казенное разворовал и шкурами торгую! Да я его… А сам, прости Господи, днями целыми гульбу устраивает с девками да вином, а пьяным делом блажит несусветно! Меня клялся в карцер засадить, да корабли мои пожечь!
– Остынь, Мартын Петрович, – урезонивал его Чириков. – О делах в Охотске капитан-командор уже в Петербург отписал. Найдут на него управу!
– Уж мне ли не знать, сколь скользок сей угорь! – не унимался Шпанберг. – Не впервой в здешних-то местах хаживаю! Уж отстраняли каналью! Уж отсылали! А вон вернулся и пуще прежнего шалит! Нечем заняться! Доносить на меня вздумал! Убью Hurensohn![6]
Шпанберг расходился все круче, из углов рта полетела слюна.
– На этот раз дело верное, – тихо сказал Чириков. – С вестовым капитан-командор велел передать, что указом императрицы нашей отстранили его уже. Однако ж приказ в Сенате застрял, замену ищут.
Шпанберг резко замолчал, потом расплылся в неприятной улыбке.
– Значит, вот как…
– Вот так, – с нажимом произнес Чириков. – А потому, Мартын Петрович, надо нам наше дело делать.
– На поклон не пойду, – с вызовом бросил Шпанберг. – Хоть сам Беринг пущай приказывает. Не согну шеи перед поганой вшой!
Чириков вздохнул.
– Что ж, придется нам, Ксаверий Лаврентьевич.
* * *– Кто посмел ко мне на глаза эту погань впустить! – послышалось со входа.
Дом Скорнякова-Писарева посрамил бы и иные особняки в Петербурге: о двух этажах, да с подъездной аллеей для экипажей. Однако рядом с кособокими избами и разбитой колеей смотрелся он не величественно, а как-то по-варварски дико. Внутри дом был столь же странной смесью роскоши и дикости – медвежьи и волчьи шкуры на полу соседствовали с дорогими китайскими вазами и стенами, затянутыми узорчатым шелком. Хозяина они нашли в кабинете, отнюдь не расположенного к приему.
Следом за Вакселем и Чириковым ввалился лакей в ливрее с золотым позументом и с рассеченной губой:
– Не вели казнить, Григорий Григорьевич, батюшка! Сами оне вперлись, супостаты!
– Доброго утречка! – звучно поздоровался Чириков, одетый, как на парад. – Людишки твои непонятливы очень, так что пришлось вразумить, уж извини, Григорий Григорьевич! А дело у нас казенное. Капитаном-командором Берингом посланы спросить с тебя все то, что ты властью своей к экспедиции Камчатской и Японской выдать должен.
Скорняков-Писарев, – грузный, растрепанный, – в залитом вином халате сидел в бархатном кресле. На коленях его восседала крестьянская девка с круглым веснушчатым лицом и растрепанном косой в платье, достойном княгини. Она тоже была пьяна.
– Это что за мразь мне «тыкать» смеет? Да я тебя… – Скорняков-Писарев скинул девицу с колен и потянулся к пистолету. – Я – бомбардир Преображенского полку, самого Петра Лексеича брат и соратник! Слыхал ли, сопляк! Вон, не то стрелять буду!
– Стреляй! – Чириков стоял, расставив ноги, в упор глядя на ополоумевшего хозяина. – После сам застрелишься!
В мутных глазах Скорнякова-Писарева что-то промелькнуло, но пьяный кураж пересилил, и палец лег на курок.
– Это мы еще поглядим! – прохрипел он. И выстрелил.
В то же мгновение Ваксель сделал быстрый шаг вперед и рубанул ладонью по стволу пистолета. Пуля прошила пол рядом с обеспамятевшей девицей. Ваксель схватил стоявшую на столе корчагу с квасом и одним махом вылил ее на голову хозяину. Квас оказался с мороза. Какое-то время Скорняков-Писарев мог только моргать, разевая рот, как выброшенная на берег рыба.
– Уж не обессудь, Григорий Григорьевич, – ласково сказал Чириков. – С волками жить – по волчьи выть!
Губы Скорнякова-Писарева затряслись:
– Сволочи вы, сволочи, – вдруг жалко заскулил он. – Старика опального позорите! Вломились в дом, как тати! Защищаться вынудили! Буду писать на вас в Сенат! На всю вашу иноземную банду!
– Уверен, что в Сенате ваши художества оценят достойно, – проронил Ваксель. – А покамест извольте наше нижайшее прошение на выдачу всего необходимого подписать.
С этими словами он вытащил из-за обшлага камзола и выложил перед Скорняковым-Писаревым лист бумаги. Услужливо пододвинул чернильницу. Чириков тем временем поднял с пола девицу и вручил ее остолбеневшему от ужаса лакею:
– Ступай-ка лучше барышню в чувство приведи. – И вытолкал взашей.
– Ну-с, Григорий Григорьевич. – Чириков подошел с другого края стола, ненароком положил руку на пистолет. – Выстрел-то твой весь Охотск слышал. Люди наши мной предупреждены, куда мы и зачем направились. Командор дал мне приказ добыть от тебя все необходимое для экспедиции любой ценой. Да еще передать велел с глазу на глаз, и приватно: мол, Указ государыни о твоем, Григорий Григорьевич, отстранении, уже подписан.
– Как? – ахнул Скорняков-Писарев. – Быть не может! Лжешь, сволочь!
Пистолет Вакселя немедля нацелился ему в лоб. Скорняков-Писарев раскрыл было рот что-то еще сказать, но, покосясь на шведа, передумал.
– Ты уж проверь, Григорий Григорьевич, – криво усмехнулся Чириков. – А пока суд да дело, искомое будь любезен выдать.
– А ежели не выдам? – набычился Скорняков-Писарев. – А ежели в холодную? И не таких там ломали!
Было видно, как он лихорадочно соображает, – не крикнуть ли своим холопам.
– Случись что, команда капитана Шпанберга разнесет за нас весь Охотск, – тихо сказал Чириков. – А у тебя, Григорий Григорьевич, заступников-то, судя по всему, не осталось. Ссылкой не отделаешься – виселица раем встанет! Довольно дурить! Так как?
– Обложили, супостаты! Обложили! – хмель, однако, со Скорнякова-Писарева от ледяного душа слетел окончательно, и он наконец осознал все происходящее ясно.